Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
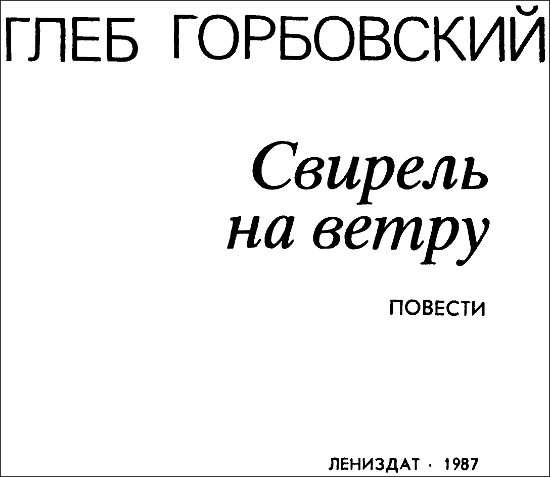
Глеб Горбовский Свирель на ветру. Повести

Свирель на ветру (Нарисованная дверь)
Спал скверно, тягостно. Не спал, а болел. Или, как выражаются медики, страдал. И когда на ладонь моей руки, откинутой в узкий проход между лежащими вповалку трюмными пассажирами, наступила чья-то нерасторопная, неряшливая нога — не взвыл от негодования, но, благодарный, проснулся, выкарабкавшись из немилосердного сна, будто из ямы. И тут же услышал пароходный гудок последнего на Амуре колесника «Помяловский». Теперь-то я знаю: начало всему неразумному во мне — обида. Точнее — гордыня, порожденная обидой. Это она сорвала меня с места и гнала по великой транссибирской дороге в направлении… чего? Мести? Утешения в забвении? Жертвенности, всепрощения? Нет. Все, что угодно, только не это. Молодость не обучена благотворительности, а мне к началу побега из неразделенной любви тридцати не набежало. Двадцать восемь. Возраст невразумительный, не отчетливый какой-то. Непопулярный. Со все еще необузданными претензиями к миру. Юность прошла, жизненный опыт — в зачатке. Разум возбужден, если не разочарован, а как же: тут тебе и первые хвори, и первые щелчки по носу раскаленного самолюбия, а то и первый, пронзительно белый волос на виске; а главное — недолговечность прекрасного ошарашила, потускнение любви к женщине изумило, испарение музыки любовной потрясло, музыки, которую принял ты за доступную воду и пил неэкономно. И как расплата — сам для себя с некоторых пор являешься главным обидчиком. И — высшим судией. А себя-то, любимого, разве не помилуешь? За все содеянное сплеча-сгоряча — не простишь? Отсюда, от лжи частной, личной, — враки всеобщие, вселенские. Ты продешевил, приврал, преступил, а расплачивается весь род человеческий. Глухой, утробный шум паровой машины и непрестанная трясца, дребезг, исходящий от «плавучего средства», перекочевали из кошмарных сновидений в предрассветную, студеную явь, открывшуюся моему хмурому взору на верхней палубе «Помяловского», куда пришлось перебраться из трюма в погоне за свежим воздухом. Берега, распластавшиеся по обе стороны могучей реки, не просматривались. Однако — угадывались. Благодаря смутным, анемичным огонькам. Весьма редким. Правильнее сказать — редчайшим. Алмазного достоинства. И еще благодаря тишине. Тишине, исходившей от берегов, спеленутых травами, наверняка поросших лиственницей, пихтачом, а то и кедром-уродцем. Ночное море, к примеру, такой плотной, обжитой тишины не имеет. Низовья Амура — это еще Север… За Татарским проливом, куда впадает Амур, гигантской рыбиной вытянулся Сахалин, в верхней половине которого под душистыми мхами костенеют синие ледяные разводы вечной мерзлоты. Опустившись на влажные рейки палубной скамьи, тут же вскочил; прохладная роса мгновенно пропитала мои потертые журналистские брючата! Ухватившись за поручни ограждения, стал всматриваться в утро. Смотреть было не на что. Предосенняя августовская ночь уходить за горизонт не торопилась, покровы свои непроглядные с теплого ложа реки снимать — не спешила. Почему все-таки Юлия отпустила меня? Из коготков? Не остановила, не окликнула в последний момент? Почему не захотела осчастливить? И еще: зачем бежал я столь безоглядно, не призвав на помощь хотя бы милосердие, отпущенное женщине природой одновременно с любопытством, неистребимым желанием нравиться и верить в разную сентиментальную чепуху? Почему не простил Юлии ее неспособность щадить несчастненьких, нежелание бросать в их протянутые кепки хотя бы медяки… участия? Я знал ее двадцать лет. Из двадцати восьми. И все это немалое время стремился к ней. Даже во сне. А может — исключительно во сне? В бреду сладчайшем? В дурмане наваждения? Не в любви же? Любовь, по слухам, не столь безжалостна. И не в общении с женщиной ее истоки. Не в смутных желаниях, не в гордыне и любопытстве. Вот, скажем, патриотические чувства — куда бескорыстнее чувств воздыхательских, аллейно-лунных. Почему-то, когда враги ставят человека к стенке, чаще всего из двух вариантов, не задумываясь, выбирает он — верность Родине. Да, да, правильно пишут в серьезных книгах: любовь — это прежде всего жертвенность. Когда свое отдаешь другому, позабыв о вознаграждении. Родился я в год окончания войны. Война умерла. В страшных судорогах — издохла. И на ее руинах зацвела радость новой жизни, начался отсчет другому, послевоенному поколению. Переезжая однажды через мост Лейтенанта Шмидта на Васильевский остров шестым номером трамвая, а точнее — вися на его хвосте, или, как тогда еще говорили, на «колбасе», в застекленном пространстве вагона увидел я девочку. Лицо девочки… Нет, она не строила мне рожи, не высовывала язык, не расплющивала нос о запотевшее от дыхания стекло, не отворачивалась презрительно или насмешливо. Она смотрела на меня в упор. Прямо в мои глаза… и как бы — сквозь меня. Трамвай как раз переваливал вершину моста, его разводной хребет, и тяжко скатывался к набережной, набирая скорость. Под бессмысленным, казалось, нарисованным, хотя и бескорыстным взглядом необъятных глаз девочки, таких же синих, как сигнальные фонарики во лбу шестого маршрута, руки мои, вцепившиеся в подоконный карниз, казалось, вот-вот разожмутся, и я, не успев позвать маму, шмякнусь на бегущий из-под трамвая булыжник. Одновременно с ощущением беспомощности в этот миг уловил я успокоительное побулькивание в ранце, висевшем за спиной, — это в чумазой бутылочке колыхались фиолетовые чернила, при помощи которых, а также стального перышка № 86 вот уже две сентябрьские недели осваивал я буквописание в первом классе. В то необыкновенное, а для меня просто фантастическое утро девочка, обладавшая отрешенным, «ложным» взглядом, увезла меня на четыре трамвайные остановки за школу. Как ни странно, однако запомнилось следующее: в ее отсутствующем взгляде сквозила умная, взрослая улыбка, весьма замаскированная, почти призрачная, такая, что и не поймешь: улыбка это просвечивает или девочкина душа? Ясное дело, что тогда, вися на «колбасе», я ни о какой душе понятия не имел, однако дыхание той улыбки, сквозь стекло проникающее, уловил! И тут же обеспокоился. Да так, что на пятнадцать минут опоздал в школу. Потом ее глаза являлись мне в сновидениях. Ничего конкретного в памяти, естественно, не сохранилось. Единственно — ощущение утраченного восторга. Позднее, когда испарилось и ощущение, к нам, в четвертый «Г», где-то с середины первой четверти перевелась та самая девочка с лунным, невозмутимым выражением глаз, и я сразу же подошел к ней и спросил: не узнает ли она меня? Юлия не узнавала. — Не приставай, мальчик, — строго поставила меня на место, а потом не из жалости, но скорей из вежливости поинтересовалась: — А где мы встречались, мальчик? — Три года назад… — заспешил, застеснялся я, промямлив чуть слышно: — Ты ехала на трамвае, а я — на «колбасе»… — На «колбасе» только хулиганы ездят. Разговор дальше не пошел. Прозвенел звонок… и я очутился за одной партой с Юлией. Прежде-то я сидел с вертлявым Шуриком, который уже курил, в драке норовил садануть «под дых», а то и ниже куда, стрелял на уроках из резиночки с двух пальцев по плакатам и прочим учебным пособиям, подкладывал кнопки под девчонок, обертывал себе передние зубы серебристой фольгой, приносил в класс живых мышей и вообще… страдал излишним жизнелюбием. Рассадили. А вместо Шурика — надменную Юлию! Ну не надменную, так задумчивую. Сложную. Не такую, как все. Взошло солнце и теперь плавало в земных испарениях, едва просматриваясь, бледным желтком висело над колючим берегом, словно засунутое кем-то в непрозрачный полиэтиленовый мешок. Уловив возле себя постороннее присутствие, нехотя отвожу глаза от задыхающегося солнца: на влажных поручнях, сантиметрах в двадцати от моих бледных, комнатных ладошек, нарисовались чьи-то весьма потрепанные жизнью кулаки, наверняка в свое время помороженные или обваренные, — пальцы в несуществующих перстнях синего колорита, то есть «отлитых» посредством татуировки. Нехотя поднимаю взгляд, скользя им по чужому кожаному рукаву, и тут же натыкаюсь на плутовское, в маске серьезности, выражение лица человека, смутно знакомого, с незажженной сигаретой во рту, полном блестящих искусственных зубов. — Здравствуйте, Венечка! Спичками не богаты? Головка бо-бо? Сочувствую. Все мы в этом мире… как бы того… После вчерашнего. Меня Альбертиком величают. Машинально беру чужую руку. Здороваюсь. Извлекаю из штанов раздавленный, сплющенный коробок. Протягиваю с тяжким вздохом. — Сочувствую, сопереживаю, как говорят в преисподней. — Непрошеный собеседник старательно распрямляет покуроченные спички, будто гвозди разгибает. — Придется потерпеть. До открытия буфета. С меня — пиво. — Откуда вам известно… — Про пиво? — Нет. Про имя… мое… Откуда? — Вениамин Путятин? А вы мне газету вчера подарили. С автографом на вашем сочинении. В жанре фельетона. Ребят, которые в картишки балуются, — высмеяли… Назидательно. Со знанием дела. Наверняка сами в той компании картежной числились. А потом, когда вас обыграли, — обиделись. Угадал? — Да откуда… черт возьми?! — Опыт. Стаж. Сорок по триста шестьдесят пять, не считая премиальных, то бишь — високосных. — Кто вы? Что вам нужно? — Ох и не спрашивайте, Венечка! Кто я? Думаете — романтик? Землепроходец? Не доверяйте своему доброму сердцу и… близорукому зрению. Кстати, очки целы? Вчера вы в очках выступали. Кто я? Еду в Крым. Банально? Зато не скучно. А нужно мне от вас, Венечка, спичку серную. — Мне кажется… Я почему-то считаю, будто видел вас где-то. — Вчера, в ресторане. Мы даже целовались с вами, Венечка. Трояк за вас доплачивал официантке. — Это почему же?! — вспыхиваю. — У меня что же… — судорожно шарю по всем закуткам одежды. — Вот именно… — делает мужик этакий ехидный полупоклон, этакий книксен западноевропейский, в данной ситуации — похабный… И утешающе добавляет: — Э-э… С кем не бывает. Снимешь в Хабаре капусту с аккредитива… «Та-а-к… Типчик на „ты“ перешел. Пассажир. Надеется, что у меня аккредитив. Заблуждается типчик. Но где же тогда наличность? Триста рубликов десятками? Все, что мне отвалили в порту за месяц страданий. За месяц немыслимых прежде физических напряжений, труда фантастического, а для меня, тонконогого горожанина, просто невероятного труда. Допустим, сотню вчера распушил. В компании этого Альбертика. В прострации! Профинтил. Допустим. Но ведь не все же… до копейки?! Ладно. Для начала необходимо прикусить язык. Типчику знать о падении моих акций — необязательно». В голове у меня что-то тихо… заплакало. Скорей всего — от сужения сосудов. Кожа на теле вздрогнула и, как вода на ветру, подернулась рябью. В мыслях стало погано, гадко. Гадко от себя, выкупавшегося в навозе вчерашней истерики, закончившейся гнусной пьянкой. В одно мгновение было все позабыто: любовь, Юлия, мать с отцом. Была бы за душой хотя бы вечность — она бы не позволила оскотиниться. А в результате не только без радости в сердце остался, но и без копейки в кармане. И что замечательно: никогда прежде со мной подобного «выпадения» из человеческого достоинства не приключалось. К чему бы это? И тут я вспоминаю, что вчера, появившись на «Помяловском», первые несколько часов плавания держал в руках портфель, в котором находились кое-какие мелочи, принадлежавшие мне: плащ-болонья, рубаха серого цвета (черную, не требующую частой стирки, вот уже полгода не снимал с себя), электробритва, репортерский блокнот с неоконченным «последним» письмом к Юлии, томик стихов Марины Цветаевой, а также футляр с ненавистными очками от близорукости, которые применял в исключительно редких случаях — идя в кино или же ловя на удочку хариусов, и еще когда, тайно от всех, по ночам смотрел на звезды. Портфель обнаружился тут же, на палубе. На расстоянии вытянутой руки. На скамье. С которой я столь стремительно приподнялся, увлажнив студеной росой брюки. Безразличным, будничным движением пальцев пошарил я в глубинах портфеля, с притихшим сердцем поставил «багаж» на прежнее место. — Что… увы? — довольно сердечно осведомился Альбертик, сосредоточенно рассматривая амурские мутно-зеленые волны. — М-м-да-а… — только и смог произнести я в ответ. — Из Хабаровска самолетом полетим? — без тени насмешки в голосе поинтересовалась темная личность. — Постараюсь… — поспешно киваю мучителю. — А я — поездом… — необычно ласково, с оттенком блаженства, почти соловьем пропел татуированный обладатель кожаного пиджака, пиджака, о котором мечтал я все эти два сахалинских года и который ежедневно ощупывал взглядом на редакционной планерке, обнаруживая фирменную вещь на монолитном торсе главного. — Понимаете, Веня… люблю поездом! И вообще — по жизни колесиком. В тайге насидишься… На откорме комара. А этой весной… и вовсе к лешему в гости попал. Три недели хлеба не нюхал. Не говоря об остальном. Не паводок — всемирный потоп! Как говорят в пустыне Сахара. Золотишко собрался мыть на ручье. А ручей к утру возьми да и разлейся. Куда ни сунусь — мокро, жидко. Отрезало. Хотел комаров паутиной связывать и на таком вертолете в небо воздыматься. А что… Ежели миллион… Нет, скажем, миллиард кровососов объединить — подымут? Как думаешь, Венечка? — Не знаю, — поджал я пересохшие озабоченные губы, не переставая копошиться в памяти: куда подевались денежки? — Вы что же, старатель? Золото вам доверяют искать? — Ну не то чтобы золотишко в прямом смысле. Однако набегался. С лотком. Пробу брал, шлих. На пару с геологом. Разведчиком недр. Копнешь грунта в речке, в лотке промоешь. Результат, который в осадок выпадет, — в конверт завернешь. И — в рюкзак. Случалось и золотишко. У меня к нему тяга. И — чутье на него. Через это чутье, а также тягу в свое время пострадал крепко. — И… сколько же его? В граммах? В среднем? — Зачем же в граммах? В атомах да молекулах покамест. Так что невооруженным глазом и не отличишь. Разговор на тему о благородном металле почему-то настораживал и даже пугал. — Женаты? — решился я на вопрос, в те дни завершающий для меня любую тему. Альбертик еще больше воодушевился, в глазах его добродушных набрякла отеческая хитреца. Он участливо посмотрел на меня, потом решительно произнес: — Сергей Фомич! — и щедро протягивает руку, попробуй откажись. — Фамилия у меня химическая: Купоросов. Смешная, правда? Во всяком случае — «Альбертик» отменяется. Этот псевдоним на куриные мозги бульварных женщин рассчитан. Не успел я как следует рукопожатие скрепить, а Купоросов уже в буфет тянет: — О женском полюсе поговорим в более торжественной обстановке. Пива в буфете не оказалось. Имелся березовый сок. И — минералка. Сергей Фомич не растерялся: — Березовый? А почему не дубовый? — Сам ты дубовый… — вяло защищалась буфетчица. — Тогда выбираем минералку. Тоже ведь сок. Ну, скажем, каменноугольный. Или кварцевый. А что — звучит? По фужеру диабазового! Минералка попалась древнейшего розлива, без признаков газа, без пузырей. И — ужасно соленая. — А что? — смаковал Фомич напиток без тени отвращения. — Натуральный рассол. Годится! Веселились таким образом недолго. Минеральная в глотку не лезла. И тогда, схватив бутылки с болотной водицей, Купоросов в акробатическом прыжке метнулся к буфетчице. Отбив перед ее стойкой чечетку, перешел с непроснувшейся женщиной на обольстительный шепот. В дальнейшем сидели, оттаявшие, разговоры вели энергичные. Купоросов торжественно причесал поредевшие на макушке волосы. Ювелирным, заторможенным движением пальцев снял с расчески золотистый волосок, не без печали расстался с ним. — Так на чем мы остановились, Венечка? Если не ошибаюсь — на разговоре о бабах? А?! Что?! Грубо? Сознаю. Только вот в чем загвоздка, Венечка… Не верю я… им! — Кому это? — Кому, кому… Не боись. Девушкам-бабушкам всего лишь. Любил, понятное дело… Еще как! И впредь — не зарекаюсь. Однако верить — отучили. — Жено-не-на-вистник?! — проскандировал я, воодушевляясь, в надежде обрести хотя бы попутное, подорожное сочувствие. — Ишь ты… энергичный какой! Нет, Венечка! Перебор получается… Убежден: женщина, после тайны происхождения Вселенной, — самое загадочное явление природы. А я — человек любознательный. Убежден: «не верю» и «не люблю» — две разные болезни. Как, скажем, инфаркт с инсультом. И повторяю: любить женщин не зарекался. Даже больше, имею твердые намерения отправиться в путешествие на юга на пару с… одной брюнеткой азиатского происхождения: глаза раскосые и зубы слегка шатаются — нехватка витаминов.* * *
Там, на севере острова, откуда я тягу дал, в городке, погруженном в девятимесячную зиму, постоянно окутанном испарениями от теплоцентрали, облаянном мужественными, подвижными собачками, в блочной пятиэтажке, раздираемой по швам ледовитой стужей, а также влагой, просочившейся в поры здания и тут же смерзшейся и разбухшей, там, в прокуренной однокомнатной, осталась Юлия, под чьими окнами жалким шакалом пробегал я по множеству раз в сутки, поскрипывая сухим, ехидным снегом. Только не подумайте, что Юлия не пускала меня на порог. Ничего подобного: бывал, сиживал, в глаза ее космические смотрел и даже ночевал иногда, припозднившись в трескучие морозы, когда всеми силами души, уставшей от постоянного ожидания милости, не хотелось выбираться из ее квартирки, из ее лишенной тряпичных украшений и все ж таки весьма женственной, ласковой обители, вытряхиваться в немилосердную, лохматую от пара, дыма и длинной собачьей шерсти, пустынную уличную явь. Ночевал, скрипел раскладушкой. На кухне. На отшибе. В тамошней, островной, десятилетке Юлия преподавала старшеклассникам русский язык и литературу. С мужем своим, Германом Непомилуевым, известным полярником, человеком отважным, но задумчивым, тяготевшим к арктическому одиночеству, завзятым ипохондриком, она еще в Ленинграде вступила в своеобразное единоборство: кто кого подомнет под себя в смысле духовном, кто кого на незримом, метафизическом буксире поведет в даль жизненную. Окончила филфак университета, просидела год в квартире Непомилуева, наэмансипировалась вволю, поджидая дрейфующего мужа, а также перемен в его героическом поведении, и, не дождавшись мира в собственном сердце, решила действовать. Списавшись с одной весьма эксцентричной женщиной, подругой юности, строительной прорабшей по профессии, искательницей приключений по призванию, укатила на Дальний Восток: дразнить Непомилуева расстоянием и собственным, пусть камерным, дамским героизмом, напоминающим просвещенное упрямство столетней давности, заимствованное у десятков поколений «синечулочниц». Помнится, с каким восторгом, близким к ужасу, очнулся я за партой в четвертом «Г» и, набравшись духу, повел глазами в ее сторону! Юлия невозмутимо демонстрировала свой подростковый, но уже чеканный, устремленный в знания профиль — чего не скажешь о моем, расслабленном. Помнится, как пронзительно ощутил я тогда головокружение, будто на приличную высоту меня вознесло… И все правильно, ибо уперся я в тот грохочущий миг не просто в нечто странное, хотя и живое, но в знак Судьбы!.. Если говорить восторженно, а значит, бесстрашно. И сразу же от девочки, от соседки моей по учебе, непрерывным потоком начала переливаться в меня какая-то таинственная энергия, сковавшая мой податливый мозг, после чего на уроках стал я регулярно получать двойки и никогда бы не выбился в люди, то есть — не окончил бы школьного курса, не пересади меня учительница на другую парту. В наше время никто не верит в так называемый рок. Однако понятие это из человеческого обихода полностью не испарилось. Время от времени люди, которым не везет в жизни, склонны сваливать вину за собственную сердечную нерасторопность, духовную вялость и прочие изъяны личного свойства — на те или иные «роковые» обстоятельства или на посторонние чарующие головы. Не скажу, что Юлия оказалась для меня из числа тех самых пресловутых «роковых» женщин, способных опутать чарами, как паук паутиной, и все же в какой-то мере уверовал же я в ее, Юлино, влияние на мою судьбу!* * *
Когда обстоятельства вновь разлучили нас и я пересел за пестрящий надписями, истерзанный перочинным ножичком стол деревообделочного ПТУ — чары, пристегнувшие меня к Юлии, не отпустили, не ослабли, но сделались как бы второй моей натурой: я строгал доски, ел казенный хлеб, доставлял родителям неприятности, сорок первый размер ботинок менял на сорок второй, раздавался в плечах, платил комсомольские и профсоюзные взносы, даже в хоре пел — и в то же время не переставал видеть поглотивший меня с потрохами, «потусторонний» взгляд Юлии, продолжал ходить под вечерними окнами ее квартиры на Васильевском острове, оставлять в ящике для писем маленькие копеечные букеты подснежников, фиалок, затем васильков и ромашек, купленные на первые собственные пэтэушные денежки у задумчивых бабуль с Андреевского рынка, — словом, беспардонно шпионил, откровенно плелся по пятам, пока не свыкся с таким удрученно-отрешенным образом жизни и однажды, естественно, сделал глупость, ту самую, непростительную, из-за которой, по моему разумению, Юлия так никогда и не одарила меня ласковым бесхитростным вниманием. Промашка моя заключалась в том, что я, не желая того, стал свидетелем Юлиной слабости… Унижения, если не падения. Соглядатаем нанесения жуткой пробоины, бреши кошмарной в ее хрустальном честолюбии. Одним словом — дошпионился. В то время жизнь, в который раз, свела наши с Юлией тропинки бок о бок, теперь уже в стенах университетского филфака: Юлия — на дневном, русском, я — на заочном, отделения журналистики. Что было необычного, поэтического в тот заурядный осенний день? И не день, а вечер? Ну конечно же — шел дождь! Не заунывный, предзимний, пронизывающий, а шаткий, кидающийся из стороны в сторону, обещающий подъем невской воды, неврастенический дождичек. Повстречавшись на выходе из факультета, мы поспешно улыбнулись друг другу (она — как бы и не мне, а всего лишь погоде, подлому дождю, я — лицу ее обожаемому, причем улыбнулся, панически присев, словно под нависшей кувалдой); улыбнувшись, кивнули друг другу рассеянно, и я, с прежним упрямством применяя изощреннейшие приемы слежки, поплелся отравленной походкой вслед за своей неутоленной страстью. В то время Юлия была влюблена в одного заслуженного артиста. По моим сведениям, они уже встречались. Не однажды. Кое-где. В разных местах города. Как вдруг артист, по всем приметам, загрустил, от встреч с Юлией стал уклоняться. То ли ответственности испугался, то ли сыт уже был по горло… романтикой свиданий. Во всяком случае — захандрил. И на последнее по счету место их встречи не явился. Очередной Юлин астральный порыв — отверг. И тут Юлия решается на безрассудную атаку: пробраться во двор дома, где живет артист, отловить его, чтобы объясниться в последний раз. А я… с величайшей осторожностью продвигаюсь по городу, не выпуская ее из виду. Она — в троллейбус, я — на крышу троллейбуса! Любыми средствами, хотя бы мысленно. Она — в такси, я — под брюхо «Волги». Прилипаю к днищу, как магнитная мина. Она — в метро, я — следом, во тьму кромешную, в пространство между вагонами, повисая на поручнях, задыхаясь от чистого подземного воздуха! Она — с Невского направо по Владимирскому к Колокольной улице, мимо магазина Всероссийского театрального общества, я — в магазин: хватаю накладную бородку, усики, коробку грима, поспешно в кабине междугородного переговорного пункта меняю себе внешность до неузнаваемости — и опять за ней! Безошибочно. Ибо знаю, куда идти. Место жительства артиста заранее разведал. В одном из ветхих, петербургского обличья переулков между Стремянным и Колокольной захожу под арку в тесный дворик с крошечным садиком-островком посередине. Три скамьи. На двух — пенсионеры. На третьей — Юлия и артист. У артиста потерянное, загнанное выражение лица. Его жесты, мимика — говорят о том, что он вот-вот взорвется и нахамит или… оттолкнется от дворового дна и тут же вознесется в небо. Подальше от неприятностей. Загримированный, устраиваюсь на лавочке — в компании трех бабуль. Осмотрели меня исподтишка, дружно отодвинулись, словно ветром их покосило ураганным. Тесней сгруппировались. «Черт с вами, — думаю, — своих забот невпроворот». И смотрю на Юлию с артистом, на их лавочку, расположенную под кустом недавно отцветшей сирени. И вдруг артист — бах! — ударяет Юлию по лицу. Этак вскользь… Смазал — и давай бог ноги! Уходит поспешно. Старушки вежливо отвернулись. Я бросился к Юлии… Бородка моя почему-то отклеилась, усики на нижнюю губу переместились. Юлия сквозь меня смотрит. Невидящими глазами. Однако постепенно в себя приходит и меня узнает. Я к ней руки в мольбе простираю. Предлагаю себя. И тут она ярко краснеет. До того ярко — ну словно кожи с лица лишилась… Руками взмахнула, будто в воде очутилась, дна под ногами не чуя. И глазами на меня как зыркнет! Ресницами как хлопнет… Зубами как щелкнет… И бегом со двора. С тех пор ближе чем на метр к себе не подпускала.* * *
Похоже, на камбузе «Помяловского» что-то подгорело: по всему пароходу расползся удушающий, тошнотворный смрад. Излишне чувствительный к посторонним запахам, я просто не знал, куда деться. Сыпанул в трюм: там к застойному духу общежития уже добавился этот кухонный, словно чью-то голову вместе с волосами или там щетиной жгли, немыслимый смердеж! К тому же — машинная, от котлов, жара. Выскочил наружу. Махнул на крышу, где шезлонги… Еще гуще загазованность. Подходит жизнерадостный Купоросов, объясняет: пахнет-де снаружи. Какое-то предприятие за бортом, с наветренной стороны. Скорей всего — мясокомбинат, живодерня. Вечером пришвартовались к большому городу. Огни веселили сердце. Несмотря на отсутствие аккредитива. Люблю рукотворные огни. Как-то уверенней чувствуешь себя среди них. Не то что в тайге, где огни высоко над головой. Другое дело — огни людей. Умные огни. Компанейские. Защищающие тебя от огней небесных. Заслоняющие от очей Вселенной. И никаких мировых потрясений, ежели один из таких свойских огней погаснет: заменил лампочку и снова любуйся. По трапу сходил, глядя городу в глаза, как загипнотизированный. Речной вокзал светился сказочным дворцом. После двух лет островной жизни жадно хотелось всего городского: света, шума, запахов бензина, женских улыбок, распахнутых окон, машинных скоростей. К своему стыду, я так увлекся видением города, что позабыл попрощаться с Сергеем Фомичом Купоросовым. И тут я с отвращением вспомнил, что у меня… нету денег. Ни копейки. Даже на трамвайный билет. На «Помяловском» я столь «тщательно» поиздержался, что в пору… с протянутой рукой или наниматься в грузчики. Прямо здесь, в речном порту. Хотя разумнее — на товарной станции железной дороги. Там цель ближе. Даль манящая, родимая — явственнее. Конкретнее она возле душистых шпал. Зримее. Глаза от тумана обтер и на вагон с табличкой «Хабаровск — Москва» наткнулся! Или на проходящий, из Владика. Однако, перед тем как топать на вокзал, решил я оглянуться по сторонам. А если честно — поискать Сергея Фомича. Одолжу пять копеек на транспорт. Не обеднеет. Одно к одному, чего уж там. И тут меня буквально с ног валит взмокший такой дяденька перегруженный, на ходу извиняется, улыбкой дарит и мимо норовит проскочить. Не тут-то было. Ручка от левого чемодана с мясом у него отрывается! Рюкзак со спины на голову перепрыгивает и голову к земле прижимает тому вьючному оглоеду. Понятное дело, кидаюсь на выручку. Хотя никто меня об этом не просит. Начинаю суетливо стягивать двухпудовый рюкзак с чужой головы, осаживать на спину. А в результате — добавляю ему сверх всего портфель. На шею. — Постой, — кряхтит. — Не все сразу… Помоги-ка лучше ручку от чемодана найти. А сам держит эту ручку в кулаке. Тогда и я не растерялся: отбираю у него ручку и в порожнюю руку мужика вкладываю свой портфель. С трудом подхватываю гладкий, как брусок льда, без единого выступа чемодан, ставлю себе на плечо, спрашиваю глазами: «Куда?» Мужик с восторженным хохотом уносится впереди меня — прямиком в камеру хранения, на ходу разбрасывая слова: — Там еще… Столько же… Помоги, паря! Выручай… Не обижу, мать честная… Сбегали на вторую ходку. Еще два чемодана и два мешка картофельных. С вяленой рыбой. Плюс жена с двумя грудными близнецами. И — теща. С собакой. Раскидали живо багаж по секциям камер. Мужик портфель, принадлежавший мне, по инерции запихнул в одну из ячеек. Выхватил я портфельчик. Стоим, улыбаемся друг другу. — Ну? — спрашиваю. — Что — ну? — улыбается. — Сам ведь обещал, — напоминаю. — Ты серьезно?.. — удивляется. — Ишь ты… с портфелем, при галстуке. А я думал… Слов нет! Держи, — и сует трояк. — Да мне пятачка достаточно! — кричу. — До вокзала добраться… «Не обижу»! А сам обижаешь… — Иди, иди, — говорит. — Пивка дерни, Жорик. — Плевал я на твой трояк! — говорю ему серьезно и поворачиваюсь идти. Тогда мужик догоняет меня на выходе из багажного подвала и хлопает несильно по плечу. — Не задирайся, паря… Ну подумал не так. С кем не бывает. Возьми. Ну возьми, ради бога. Я на этом «Помяловском» без сапог однажды домой вернулся. Прогудел все как есть подчистую. Атмосфера на нем… того — ужасно способствует! Держи, — воткнул бумажку в верхний кармашек моего пиджака, будто платочек носовой запихнул с размаху.* * *
Ночевать поехал на железнодорожный вокзал. Хорошо, что есть вокзалы. В любом городке, стоящем на рельсах, не обойденном «железкой», имеются разлюбезные строения: иногда огромные, в мраморе, напоминающие дворцы; иногда приземистые, одноэтажные, возведенные из хвойного кругляша, напоминающие деревенскую баньку… И однако же все они замечательного свойства сооружения, и прежде всего — убежища. Вот их главное назначение: приютить пустившегося в дорогу странника, беженца, переселенца, путника, укрыть его от дождя, снега, дать ему если не кусок хлеба, то кружку воды. Очень люблю вокзалы. Особую задушевность этих распахнутых настежь гостиниц, где никогда не висеть табличке: «Свободных мест нет». Есть места! Отыщутся. Пусть на полу, пусть в углу или же у столба, подпирающего кровлю, отполированного спинами граждан, пусть! Заходи, располагайся. В момент приобщения к вокзальному большинству ощутил я смутное желание: во что бы то ни стало — выжить, устоять в дороге. Продвинувшись в наиболее беспросветный угол огромного помещения, за спины каких-то необитаемых, навсегда закрывшихся ларьков, торопливым, судорожным движением рук, словно мерзкую рептилию, содрал я с себя галстук. Облегченно вздохнул, глянув по сторонам. «Теперь ты, Венечка, сын толпы. Осталось черную рубаху настежь распахнуть и как бы невзначай отложной воротничок на пиджачке вздыбить — и стопроцентная гарантия безопасности обеспечена. Посмотрят — хват, тертый калач… а то и за уголовника примут». Под сводами здания, как под сводами бытия, копошилось множество народу. Люди жевали пищу, теребили вещички, читали по печатному и писаному, озирались, кашляли, неожиданно срывались с мест и неслись, спали врастяжку, один даже очки, иронически улыбаясь, протирал, а еще одна, женщина, в себя ушла, задумалась или загляделась на что-то воображаемое, с блаженным выражением лица в так называемой позе лотоса минут пятнадцать просидела, покуда к ней милиционер не подошел и по радиопередатчику про свое местонахождение дежурному громко не доложил. Женщина сразу очнулась и бутылочку с местной минеральной водой принялась откупоривать. Никогда еще мозг, безотказно служивший мне более четверти века, не работал столь лихорадочно в одном-единственном направлении: где, где раздобыть хотя бы немного денег? Немного, но и немало… Чтобы на билет до Москвы хватило. Вот вопрос! Телеграфировать просьбу родным самолюбие не позволяло. Оно у меня за дальневосточные месяцы не только не выцвело, но сделалось как бы еще капризнее, ранимее. И то: мужчина в апогее сил клянчит сотенку. И откуда весть подает? Добро бы из какой-нибудь Алупки виноградной. С острова Сахалина! Где, по слухам, денег этих… рыбы не клюют. Очутись в моем положении, скажем, музыкант — куда бы он устремился? В ресторан или филармонию. Туда, где есть инструмент, на котором он мог бы сыграть что-нибудь жизнерадостное. Не по вагонам же тащиться, играя… на нервах? Сшибая гривенники? Любая профессия в любом населенном пункте предусматривает некий спеццентр, средоточение, узелок, куда время от времени сходятся представители того или иного «профиля»: врач, окажись он в моем положении, двинул бы в райздравотдел. Учитель — в районо. Пенсионер — в райсобес. Шофер… Ну, что касается шофера — необязательно ему в управление транспортом топать. Шофер — он руку профессиональным жестом поднимет, себе подобного остановит. Потолкуют они секунду на шоферском языке, и смотришь — оба два в теплой кабине дальше поехали. Хотя бы и до Москвы. А куда журналисту податься? Который не только с коллективом не сработался, но и с женщиной общего языка не нашел. В редакцию местной газеты? Так-то оно так… Но слишком наивно. Когда тебе под тридцать, а в характере у тебя нерастраченный запас честолюбия, а в портфеле плащ-болонья вместо мускулистого, боевитого очерка на тему из жизни обитателей данного региона… конечно же, выход из такого положения найти не запрещается. Можно, к примеру, за пять копеек получить в справочном киоске адресные данные обо всех проживающих в городе Иванах Иванычах Ивановых. И взять у них интервью. Как это сделал на очередном распутье кочующий московский журналист N. В городке, где он тогда бедствовал проездом, нашлось целых четыре Ивана Иваныча Иванова. Из них один — Герой Соцтруда, один — ветеран войны, двое остальных — просто граждане. Да и что значит — «просто»? Один — коллекционер, старинные литые утюги собирал. Другой — трезвенник. Вина не употреблял. Во всяком случае, материал о четырех полных тезках, как говорится, с руками у N оторвали, отстегнув ему предварительно аванс из редакционной кассы. Затем очерк в столице перепечатали, сценарий по нему слепили, фильм экраны полмира обошел… Короче — повезло человеку по имени N. Сопутствовала ему в жизни удача. И… пять копеек в кармане имелись — на горсправку. У меня же к моменту возникновения вокзальной растерянности все копеечки из той, заработанной носильщицким трудом, трешки были уже проедены, прогулены. Идти в редакцию газеты с протянутой рукой — гордыня не позволяла. Вот я и размышлял… мучительно, словно над ускользающей рифмой бился, — в направлении добычи деньжат. Кумекал, сидя на диване в темном углу зала ожиданий. В ногах у какого-то спящего гражданина. Прикидывал возможности. Если у человека отнять все, включая исподнее, а также душу, но оставить на руке часы, он, сам того не замечая, будет все чаще и чаще посматривать на эти часы, потому как на часы надлежит именно посматривать. Голодный и холодный, он не на хлеб, в чужой руке зажатый, воззрится, не на шубу-дубленку, начиненную райским климатом, но — все на те же часы дурацкие, якобы контролирующие время, а на самом деле не имеющие с ним ничего общего: часы это часы, коробочка металлическая с потрохами, тогда как время это время, то есть нечто сверхъестественное, поэтическое, ни пальцами, ни глазами, ни языком с ушами не ощутимое. Разве что — сердцем… Воображением. Любовью к жизни. Ненавистью к смерти. Так и я, оставшись на бобах, ежеминутно вспоминал о своем безденежье, будто на часы посматривал. Но безденежье все же не часы, которые, на худой конец, можно загнать по дешевке и на вырученную монетку обрести пирожок. С повидлом. Но, подобно съеденному пирожку, безденежье вселяет в нас энергию, а именно — побуждает к действиям. Для начала решил я обследовать содержимое портфеля, того самого, сопутствующего мне в скитаниях по безлюбью. Предмет номер один: электробритва «Харьков». С плавающим стригущим устройством. В футляре. Извлекаю и на ладони держу, как бы взвешивая. — Штепсель в туалете, — поясняет спящий возле меня человек. — Иди побрейся, — предлагает простуженным, осипшим голосом путешественник. — Покараулю твой портфель. — Спасибо, не надо, — отвечаю спящему. — Решил до Москвы не бриться. — Родные не узнают. А приборчик, что же… продаешь? — Скорей всего — нет. Впрочем, как знать… Вообще-то я эксперимент провожу. На выживание. Под кодовым названием «Не имей сто рублей…». — Имей тысячу — так, что ли? Глупому ясно: сто друзей выгоднее иметь, нежели «стольник». Ну что такое сотенная в наше время? Одного из ста друзей в ресторане угостить — задумаешься. Устарела поговорка. Однако и друзья нынче… по лавкам не валяются. Друга нынче заработать необходимо или — закупить. Если не завоевать. И от ста рублей нынешний друг ни в жисть не откажется. Так что иметь хорошо бы всю поговорку целиком. И рубли, и приятелей. И лучше — больше. Девиз твоего эксперимента не выдерживает критики. А суть эксперимента — в чем она? — Познать мир. Попутно — себя. Вам скучно? Допрашиваете, а сами зеваете! — Мне страшно. А скучно было… когда впервые брачными узами себя опутывал. Мне страшно… И боюсь я — чего? Жениться еще раз. Нох айн маль, как говорят в Нюринберге. Стало быть, на выживание рассчитан эксперимент? — Вот именно. Как без копейки в кармане добраться от берегов Амура до берегов Невы. — Что ж тут такого… И прежде добирались, выживали, — обнадежил меня лежачий хрипун, наверняка не простуженный, а просто пропившийся до потери голоса. — Беглые каторжники сахалинские, к примеру… Да мало ли землепроходцев. Тут главное условие — веселости в мозгах не утратить. Восхищения жизненного. Не шелест рублей, а трепет души! — внезапно очистившимся тенором пропел он. Наконец-то меня догадка прострелила: Купоросов! На лавочке Сергей Фомич Купоросов лежит, выступает, надо мной потешается. Измененным голосом. Самый темный угол в зале ожидания облюбовал, затаился. И несмотря на это — вышел я на него! Без промаха. Как самонаводящаяся торпеда. — Кого за нос водите, Сергей Фомич? Узнал я вас… И тут в нашем диалоге пауза происходит. Показавшаяся мне — томительной. На мгновение засомневался я, что передо мной Купоросов; а человек, скрипя расшатанным диваном, поджал ноги, достав из-под головы кожаный пиджак, и нехотя, как бы скрипя собственными суставами, обрел сидячее положение. — Хорошо, пусть так. Допустим — Фомич. Нехай, как говорят в Жмеринке. А тебя, кирюха, ежели память не изменяет, Витей зовут? — Веней. Вениамином. Сутки всего лишь не виделись, а вы забыть успели. Виноват, не попрощался там, на пристани. Разобиделись? Только ведь, сами понимаете, два года на материке не был! В глазах поплыло… Огни, машины, толпа! — Ну и чего хорошего на твоем материке? На острове небось ужинают об эту пору? Есть хочешь? — прервал Купоросов мои оправдания, попутно извлекая из блестящего пиджака, будто из сейфа стального, завернутую в пергамент куриную ногу поджаристую. — Обрабатывай, Вениамин. А приборчик свой побереги. Не желаешь бриться — не брейся. Учти: человек с приборчиком — это уже нечто. Представь себе: пустыня, песок или там снежное безмолвие, равнодушное пространство, а ты — с приборчиком! Машинка у тебя, агрегатец! Дитя мысли… И глядишь, бритва сия для тебя, материалиста современного, выкормыша науки, — целительней любой иконы делается. Припекло, достало, до корешков организма пробрало на ветрах жизненных, а ты извлек приборчик, к сердцу прижал, воздал хвалу эпохе, то бишь себе самому, — и глядь, отпустило. А ежели штепсель или там на батарейках твой аппарат тупейный — тогда и вовсе хорошо: включил и слушаешь музыку его металлическую, упиваешься пением шестеренок. Никакой Бах или там Соловьев-Седой в сравнение не идет. Я оптимист, Венечка. Человек, который смеется. Ешь ногу, не стесняйся. Вторую конечность я уже оформил. Увы, без гарнира. Даже без хлеба. — Спасибо… если не шутите. Перекус как нельзя кстати. Через час на товарную болгарские помидоры подадут. Четыре рефрижератора. Решил поразмяться. Здешних бичей не хватает. Которые не в трансе после вчерашнего — те на более выгодной разгрузке. Вот и сколотилась бригада из случайных шабашников. — И ты, стало быть, в шабашники? С портфелем? Не пойму я тебя… А вдруг ты — шпиён?! Маскируешься под несчастненького. Видел я, как ты галстук со своей шеи снимал, будто с чужого человека… руки тряслись. С такой… рожей интеллигентской — и чтобы без копейки. Не верю. И добро бы — сытый голодного не разумеет, так нет же — каждому по куриной ноге досталось. Ну что ж, валяй бичуй, потрись горбом… о правду жизни. — А мне, знаете ли, не впервой! — обижаюсь и хвастать начинаю вследствие обиды. — Два месяца в порту на севере Сахалина марочку держал! В разгар навигации. В ранжир, затылок в затылок, ни разу места не уступил! Ряшки шире моей вдвое — на бетон с размаху ложились! Накрывшись мешком! Мучкой пшеничной… А я устоял! Под седлом. Сахар, горох, мыло, «огненная вода», сурик бочковой… Все, что жители на острове употребляют, — через мою спину — с корабля на берег перешагнуло. — Нашел, чем хвастать, феномен. Вот если б ты на острове летающую тарелку обнаружил… и под ружьем — в милицию отконвоировал. Хотя бы устаревшую, довоенного производства. Или, скажем, стеклотару, которой там, на островах, горы Капкасские накопились, заезжему иностранцу валютному сплавил, на его пароход сдал, погрузил. Тут уж я перед тобой головку-то склонил бы. Из уважения. А то — «под седлом»… Унываешь, парень. А это нехорошо. Преступление это — в твоем возрасте унывать. Давай-ка договоримся: с помидорами управишься — чеши сюда. То есть ко мне, в этот закуток, возвращайся. Ибо я здесь не просто так разлегся, а с умыслом: соображаю. А правильнее сказать — решаюсь. На ответственный шаг. — Жениться или нет в четвертый раз? — Откуда сведения? — Сами же… — Ах черт… тебя за ухом почесал! Как говорят в Улан-Удэ. Опять же — не все так просто. Договорился я тут… с одной косоглазенькой. В свадебное путешествие пуститься. Билеты плацкартные приобрел. Люблю в оживленном обществе, среди себе подобных передвигаться. А косоглазенькая моя в отдельном купе ехать пожелала. Затеребила совсем: хочу так, хочу этак… Ну и… смутила мне душу… Пожеланиями своими. Не денег жалко — принципов. И вот я малость… заколебался, сомнения меня посетили: а стоит ли с подобным айсбергом, у которого две трети всей его сущности в воде непроглядной находятся, стоит ли с этим котом, вернее, кошкой в мешке, с претензиями ее всевозможными, непредсказуемыми, — судьбу связывать? Резонно ли? Жених я теперь, по четвертому разу, весьма разборчивый сделался. Брезгливый. С одной стороны — стоит попотеть, как говорят в морге. Все зубы у девушки целы, хоть и шатаются, восточная улыбка таинственная сквозит на губах, в глазах напор и… хи-хи: по-турецки сидеть может часами. Не двигаясь и ни слова не произнося. А с другой стороны — боязно: а ну как затоскую? Что ни говори, а четвертый раз… заново рождаюсь! Железная воля нужна. И — здоровье незаурядное. Одним словом — «теребила баба лён — заработала мильён»!* * *
Из всего прекрасного, что произошло со мной в последние годы, что не выветрилось из памяти, но стало как бы ее художественным обрамлением, выделю необыкновенно эффектные, величественные сахалинские бураны. Они застигали меня то в дальней дороге, когда семнадцать безлюдных, безмашинных, первозданных в своей нетронутости прогрессом километров приходилось преодолевать ползком на брюхе трое суток, ночуя будто в огромном, космического масштаба сугробе — все в том же буране; то под случайной крышей, когда снежная круговерть подкрадывалась ко мне, спящему в ночи, к моей землянке, спеленутой снежным зарядом, ко мне, похороненному заживо, когда в поселке почиталось за честь — первым вывернуться из-под снега, высверлиться наружу, чтобы первым прийти на помощь остальным, победить в своеобразных соревнованиях на извлечение из снежной могилы духа и тела «живаго». И все же самое четкое и вместе с тем восхитительное изображение бурана в сознании моем осталось от бурана городского… Плясавшего свою, неохватную человеческим разумом, камаринскую — под сахалинскими окнами Юлии. Помнится, это была ночь на старый Новый год. Псевдопраздник. Тень праздника, миновавшего двенадцать дней назад. Радость, успевшая состариться, словно елка с наполовину осыпавшейся хвоей; отзвук, отражение действа, след, оставленный на снегу дореволюционного литья калошей, припорошенный неисчислимым количеством последующих буранов. Как сейчас помню, играли мы в карты, «пулю» в итээровском общежитии расписывали. Затем надоело. Попробовали от преферанса к покеру метнуться. Настригли ножницами фишек из обувной упаковочной коробки. Раздали. Мне карта хорошая идти начала. То «масть», то «каре» подбиралось. Не блефуя, сгребал картонные чипы. Однако, чую, настроение внутри, на самом донышке, — аховое. Ощущение такое, будто грипп нехороший, гонконгский, душа подхватила. Восприятий никаких: что красная икра, что каша перловая. Одним словом — ничего не радует. Даже выпивка. И вдруг в момент раздачи карт, когда игроки после очередного тура в себя приходят и несколько расслабляются, — внезапным порывом ветра распахивается в комнате окно. Одно из двух. Не заклеенное на зиму. Окно-вентилятор. Оно же — мусоропровод. Выпихнуло в комнату створки, в черную дыру образовавшегося отверстия клок белой бороды бурана просунулся. И многие из игравших брезгливо поежились. Потому что мелкие снежинки моментально пометили всех — кого по лицу, кого по голой шее или по лысине. Словно кто-то, огромный и озорной, от души чихнул за окном, не прикрыв лохматую пасть ладонью. Бросил я карты на стол. Подошел к проему окна, вплотную к ледовитому дыханию зимы, бесновавшейся в отверстии. И показалось, почудилось мне, что там, в гибельном пространстве, как корабль в океане, пропадает сейчас родная душа, подающая мне сигналы бедствия. На определенной, суперкороткой волне. Хватаю штормовку, шапку нахлобучиваю, горло шарфом бинтую и, не говоря ни слова партнерам по игре, исчезаю. В тот вечер (или день, ночь, утро?) население городка отсиживалось в квартирах, цехах, котельных, сторожках и прочих укрытиях, а если и передвигалось вдоль улиц по неотложным надобностям — совершало это на вездеходах, а на более короткие расстояния — на карачках, держась за протянутые меж строений капроновые, нервущиеся веревки. Помню, высунулся я из парадного, хотел сразу побежать в направлении Юлии, однако упал, поскользнулся и сполз обратно к дверям: возле входа как бы воронка из довольно прочного снега образовалась, и на дне воронки небольшой, местного значения, смерч пошатывается. На голове у меня обширная, волчьего меха шапка медленно, как перегруженный вертолет, вверх, вместе с волосами, подниматься начинает. И вот шапка, на мгновение зависнув, стремительно уносится в буранную тьму. Башлыком штормовки прикрываю осиротевшие волосы. Стягиваю шнурки башлыка под подбородком. Нашариваю в карманах перчатки, прячу в них кисти рук. Разбежавшись, вбиваю в алебастрово-хрупкие края воронки острия сапог. Где-то наверху, словно уже над домом, над всем городом, над сознанием себя и окружающего мира, ориентируясь по наитию, пускаюсь, подхваченный ветром и подталкиваемый, будто бульдозерным таранным ножом, буранной плотью, заменившей воздух. И наверняка бы я выкатился кубарем из города, чтобы безвольной соринкой (в лучшем случае — все той же шапкой, сорванной у меня с головы) застрять где-нибудь во льдах океанских, в торосах причудливых, не наскочи я на спасительную веревку, которая стелилась уже по самой поверхности монолитного снега и через пару минут ушла бы в этот снег, вросла бы в него. Та веревочка (как ни вейся!) привела меня под окно Юлии. Окно это выглядывало в мир не с фасада и не с дворовой, тыльной стороны, а именно с торца здания, с правого его крыла. Сияло оно под самой крышей дома и в ту смутную минуту пребывало в гордом одиночестве: остальные окна были погашены. Кто бы знал, каким ласкающим, нет, ликующим, воспламеняющим душу светом мерцало для меня в ту пору это окно. Находясь где-то далеко внизу, у подножия окна, в снежной сумятице, прикованный мириадами снежинок, будто россыпью желаний, к земле-прародительнице, взирал я на зазывную, зыбкую звезду коммунального значения, бесстрашно ей улыбаясь, как знаку судьбы. И прежде не раз, бывало, простояв под этим окном до изнеможения, до возгорания в сердце восторга, расслабляющего волю, уходил я к себе в общежитие, ложился на койку лицом к стене и… вспоминал золотое окно Юлии, будто детство свое, будто улыбку материнскую или промельк солнца, погостившего в ненастную пору. А тогда, в буранную заметь, раздвигая перед собой снежный занавес-плетень, решительно направился к ней, в ее дом, в ее мир — в мои сны о счастье. Юлия впустила меня, милостиво потупив свой разрушительный взор, проникающий в мою плоть, будто смертоносное излучение. Она потупила взор, словно увидела перед собой нечто укоряющее, как если бы в двери к ней постучалась забытая родственница, прошедшая пешим ходом от моря Белого до моря Черного. — Здравствуй, Веня, зачем ты пришел? Я не одна. — Я пришел, потому что… буран. Не просто непогода, а бедствие как бы. Случись землетрясение или наводнение — я тоже пришел бы. Ты же знаешь, для меня такие грандиозные сдвиги в природе — как праздник! Все эти пожары, смерчи, цунами, извержения спящих вулканов… у меня тогда как бы повод… в любую дверь стучаться и помощь предлагать. Можно, я зайду? Хотя бы на кухню? Чаю попью? — Заходи, Веня. Только я не одна. У меня Евгения Клифт. Мы — не в форме. Сидим, мужиков проклинаем. Кукушкины слезки точим. Хочешь присоединиться? — Лучше я… на кухне подожду. — Чего подождешь, Веня? — Ну… пока буран не уляжется. — Еще три дня… по сведениям. А по приметам — неделя. — Ну хорошо… Я молча на вас посмотрю и уйду. В полночь. Годится? — Только молча. Потому что Евгения Клифт не в себе. Евгения Клифт — строитель, прорабша. При виде мужчин иногда закатывает истерику, но чаще всего — заведя под лоб глаза, начинает читать стихи. Без разрешения. Находясь в гостях, никому даже в голову не придет ни с того ни с сего закричать благим матом, волком взвыть или взять, скажем, и лампочку электрическую под потолком разбить. Шваброй или чем угодно. А стихи ни к селу ни к городу прочитать, пробубнить, проныть или прогундосить — будьте любезны, не возбраняется. Сколько угодно. Хоть до умопомрачения. Нормальных, цельных людей санитары иногда под руки выводят с таких посиделок. На которых, как снег на голову, может свалиться начинающий поэт, открывающий в себе Америку, то есть способность километрами рифмовать слова и на чужие, посторонние органы восприятия нанизывать их. Евгения Клифт была достаточно молодой, лет тридцати пяти, женщиной баскетбольного роста, сутулая, косолапая. Называвшая себя в стихах медведицей, Однажды у нее был муж. Имелся. Но как-то очень скоро умер. Ходили слухи, что залюбила. Прижала грудью к тахте — и обмер. А на самом-то деле не залюбила, а зачитала. Стихами оглоушила. Окурила лирикой своей беспощадной, будто газами паралитическими, в гроб сводящими. Хотел я мимо женщин в кухню прошмыгнуть, на заветную табуреточку приземлиться — туда, в самый тесный, но самый уютный, теплый угол внедриться, где труба отопительная с потолка стекает. Не позволили. Должно быть, Евгения Клифт крови моей пожелала, жертву почуяла. Сама Юлия от стихов Евгении деликатно отворачивалась. Незаметным внутренним щелчком выключалась. На лицо ее, утомленное собственной красотой, посмотришь — слушает человек, внимает. Даже кивает ритмически головой и ногой покачивает в такт. А душа Юлии в это время в другом городе находится. А то и на другой планете. Я-то знаю: достаточно к Юлиным глазам вежливо подобраться и деликатно, без суеты, в них заглянуть, как в телескоп, лучше из укрытия, чтобы она от посторонних звуков или передвижений не очнулась, и сразу вам ясно сделается: витает девушка. От страшных стихов Евгении Клифт всеми силами души оттолкнулась и теперь — летает. В космосе воображения своего. А Евгения Клифт меж тем выжидает, когда Юлия с небес возвратится или когда в Юлину дверь безмозглая рыбка проскользнет. Легковерная. Вроде меня. Сегодня женщины хоть и хандрили, хотя и проклинали кого-то там, однако призвали меня к себе в комнату, рюмку водки поднесли. Красного мяса срез от балыка кижуча свежепросоленного перед глазами замаячил. Как стоп-сигнал на пустынной ночной дороге. — Выпей, Венечка. За несчастных, измученных мужской диктатурой женщин. Выпей, безвредный мой. Нету в тебе самца. За это тебе почет и уважение. — И… все? И ничего, кроме почета? — вопрошаю. — А… фунт прованского еще! — острит, забравшись с ногами в кресло, Евгения Клифт. Двух этих женщин, внешне совершенно непохожих друг на друга, жирафу и козочку, объединяла одна общая страсть: женское честолюбие. Мужское честолюбие, как правило, разъединяет. Женское — сплачивает. Во вселенском масштабе. От честолюбия материнского до честолюбия любовницы. Но еще крепче, нежели честолюбие, единит женские сердца ее величество Жалоба.О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
* * *
Рано или поздно приходит конец всему. Даже помидорам в рефрижераторе. Вспотев на искусственном морозце холодильника и заполучив на свою черную рубаху несколько новых пятен органического происхождения, вернулся я под вокзальные своды… и тут же забегал по залу, ища единственного знакомого мне человека, Сергея Фомича Купоросова, или как там его по паспорту? Интересно, что за десять дней дорожного с ним общения до Москвы (включая Амур-батюшку) я так и не узнал, кто он — Купоросов? В смысле биографических данных. Узнал я другое, то есть куда большее: ощутил под прожженной, тертой маской обладателя доброго сердца, обрел хорошего, с негнилой душой, человека. А в смысле «данных» — кем он только не рисовался моему воображению, опиравшемуся на оброненные словечки, демонстрируемые замашки и прочие приметы: бывшим уголовником, бичом, отставным военным, морским волком, денежным воротилой, спекулянтом, опростонародившимся инженером-геологом… Так ведь не в «данных» суть. То бишь не в них одних. «Был бы человек хороший!» — как говорил поэт Юрий Паркаев. Зал ожидания — это все ж таки не зал Большого театра. Люстра поменьше, бархат на подлокотниках отсутствует, паркет каменный, ряды в партере несколько по-иному расположены, занавес поменьше и всего лишь перед дверью в ресторан, а так называемые подмостки, то есть сцена, на которой выступают «артисты», находится не в определенном, традиционно-театральном, противоположном зрительскому глазу месте, а скорей всего — где-то в центре помещения, на манер авангардистских постановок двадцатых годов, когда действие пьесы разыгрывалось чуть ли не в гуще народа, причем народ сам «выступал», время от времени подавая реплики, а то и производя жесты. Короче говоря, сориентироваться в зале ожидания или, что вовсе проблематично, отыскать в нем малознакомого человека — отнюдь не так просто. Пришлось достать из портфеля очки и в таком начисто преображенном виде (лично меня ношение очков делает неузнаваемым) пускаться на поиски Фомича. В мрачном закутке, за никчемными, порожними ларьками, Купоросова почему-то не оказалось. Ну и что? Не все же ему тут лежать, не безвылазно же. Ну забыл он про меня. Кто я Купоросову? Второстепенный персонаж. У Фомича своих проблем — ни в сказке сказать, ни пером описать. Скажем — косоглазенькая. Для чего она ему послана-наслана? Для вечной любви? Тогда почему он не летит ей навстречу с восторгом в глазах? Почему сомневается? Терзается почему, будто Гамлет? В любви-то пребывая, в чувствах не копошатся, не торгуются — что по чем. А всего лишь блаженствуют безоглядно. Может, в ресторан отлучился? Да мало ли… Хотя, конечно, дружба с Купоросовым обещала, даже сулила некие в моем положении перспективы, просветы определенные. В недалеком будущем. В кармане у меня после двух с половиной часов «спинной» работенки лежали двадцать пять «помидорных» рублей. Неприкосновенных, билетных! Еще столько — и можно ехать дальше. На законном основании. Ехать домой. К маме с папой. К родному порогу. К приступку каменному перед дверью родительской квартиры, что на Васильевском острове в старинной «доходной» семиэтажке, где у меня своя комната, а в ней свои книги, свой диван уютный с углублением для определенных частей тела, с этакой лункой или лузой, образовавшейся от пребывания на его поверхности многочисленных представителей моего фамильного рода, а еще стол с деревянным резным барьером, с заборчиком восхитительным и старинным же зеленым сукном по всей широчайшей поверхности стола, — комната со своей «петербургской» пылью в мебельных переулках, ежедневно собираемой матерью, как некий нежелательный урожай, преумножающий себя с завидным постоянством. По местной радиотрансляции время от времени что-то объявляли, в основном — сведения о поездах, прибывающих и убывающих. Отсутствие проездных билетов делало меня невнимательным слушателем, ибо куда спешить… без дороги? Дайте дорогу, и я начну соображать о цели, в которую эта дорога рано или поздно упрется. Как вдруг — нечто нестандартное! Объявление не из монотонного ряда и потому привлекательное для слуха! — Гражданин Купоросов, Сергей Фомич! Подойдите к дежурному по вокзалу! Купоросов Сергей Фомич, вас ожидают в помещении дежурного по вокзалу! И тут я увидел Купоросова. Издали. В партере. Рядов этак за десять от себя. Ощутил. Фомич, склоня голову на грудь, сидел в компании каких-то военных дедушек, явно отставников, однако в мундирах с погонами, все при многочисленных наградах, но почему-то не в самих орденах и медалях, о наличии которых говорили орденские планки, а в значках. Все они, дедушки эти, буквально усыпаны были блестящими значками, словно коллекционеры. Купоросов прятал лицо наклонением головы, всем своим обликом излучал предельную настороженность. Одновременно с настороженностью отметил я на губах Фомича хитренькую улыбочку: каким-то мыслям радовался, а может, изумлялся вчерашний золотоискатель. Когда же дикторша повторила приглашение — Купоросов с сомнением покачал головой. Один из дедушек, обладающий острым слухом, приоткрыл порожний, беззубый рот. — Видать, потерялся сослепу… соколик. Купоросов энтот. Не из наших ли ветеранов инвалид? Не дослушав дедушку, золотоискатель аккуратно поднялся с дивана, стараясь не двинуть плечом, ногой не зацепить тесно сгруппировавшихся старичков, пригнувшись, словно что-то рассматривая на полу, потащился в направлении стены, уставленной телефонными будками. Зайдя в одну из них, щелкнул выключателем, погасил в будке свет. Не иначе наблюдательный пункт организовал и сейчас на происходящее посматривает. Вроде как бы в отдельную ложу забрался и за развитием спектакля следит. У противоположной от телефонных будок стены, там, где размещались служебные закутки с кассами, справочным бюро, помещением дежурного по вокзалу, из беспрерывно перемещающегося количества людей выделил я одну маленькую женщину, круглолицую, в огромных очках, в гигантском красном берете, с монгольского типа лицом. Лет ей на вид было… сколько угодно. Хоть тридцать, хоть пятьдесят. Вела она себя, как и все, беспокойно. Однако на большие расстояния от касс не отвлекалась, надолго из поля моего зрения не исчезала, вращалась в основном возле отверстия справочного бюро, куда частенько заглядывала, стуча очками о заградительное стекло, после чего дикторша слегка разъяренным женским баритоном напоминала в десятый или тринадцатый раз: — Гражданин Купоросов Сергей Фомич! Срочно подойдите к окну справочного бюро! — Пойду к-а-акну! — хихикнул, передразнивая дикторшу, лысеющий итээровец в очках, пытавшийся развеселить свою даму, окоченевшую от дорожной усталости и скуки. А меж тем раздосадованная дикторша объявила посадку на скорый «Хабаровск — Москва». Купоросов в будке руку с часами к самому лицу поднес, остатки времени до отправления поезда определил, взвесил и продолжает прятаться. «Ясное дело, — смекаю увлеченно, а также заинтересованно, — не желает Фомич с косоглазой в дальнюю дорогу пускаться. Теперь необходимо улучить момент и Купоросову за пять минут до отхода поезда на глаза попасться — неужели не пригласит? За компанию до Москвы прокатиться? А вдруг он билет, который лишний, в кассу возврата сдал? Вряд ли… Не станет он свободой рисковать. Из укрытия высовываться. Из-за каких-то пятидесяти рублей». Стою, наблюдаю. Косоглазая красный берет с головы сорвала и ну махать им над головой, очками сверкать! А сама так и полетела навстречу кому-то — в толпу. Да, видать, обозналась. Берет в руках жгутом закрутила, словно отжать из него что-то хотела, к примеру дождь прошлогодний. А затем, ничего перед собой не видя, вся в очках, будто в стеклянном аквариуме, на голову надетом, спотыкаясь и пошатываясь, отдалась людскому потоку, который и вынес ее из вокзала на площадь. Кинулся я к телефонной будке, где Фомич обосновался, очки на ходу с лица своего трусливым жестом срываю, чтобы Купоросову легче было меня опознать. В дверь стеклянную вежливо стучусь. А из глубины будки на меня чужая вовсе харя оборачивается. Злая. Даже разъяренная. — Я тебе стукну, понимеешь! Только вошел, понимеешь! И уже стучат, понимеешь! Стукачи, понимеешь… Тогда я в соседний отсек ринулся — опять не то! Дамочка, бессмысленно улыбающаяся… Всего лишь. Трубку двумя руками ухватила, будто кость гложет. Проверил я кабинки, все до одной, — нету! Фомич сбежал! Пока я ушами хлопал и в направлении азиатской женщины взгляды бросал. Досада! Вновь очки нахлобучиваю на нос, подхватываю портфелишко и выношусь подземным переходом к поезду, до отправления которого остается совсем немного времени. Последние пять минут провожу в состоянии, близком к сумасшествию, напоминаю собачонку, потерявшую хозяина. Налетаю на посторонних людей, обнюхиваю их взглядом, тяжело дышу, в окна вагонов заглядываю, руки-ноги у меня беспорядочно дергаются, голова на плечах вращается, будто на живую нитку к телу притянута. И вдруг… сникаю. В самый последний момент. Посылаю все к черту и облегченно вздыхаю. Словно из тесной собачьей шкуры в прежнюю оболочку помещаюсь. В разношенную. Свою. С трепетной, аккуратной ненавистью снимаю очки, запираю их в футляре, безжалостно роняю на дно портфеля. Мимо меня проходит милиционер, затем проплывает некрасивая женщина, облепленная джинсами. Повеяло тяжелыми, неистребимыми духами. В памяти воскресают слова старинного романса:Отойди от меня, отойди, не гляди.
Денег нет у меня, только крест на груди!
* * *
Евгения Клифт, девушка неуклюжая, костлявая, громоздкая, готовилась к чтению своих стихов, тело ее вибрировало, извивалось, дух ее изнывал, маялся. Вначале сидела в мягком поролоновом кресле, поджав под себя гигантские голые ноги, сидела, будто ожившая ископаемая птица, не умещавшаяся в современном кресле, и так как, по сути своей, не переставала оставаться женщиной, то и пыталась перед чтением стихов угнездиться поуютнее, принимая при этом дикие, доисторические позы. Намаявшись всласть, выпростала из-под себя узкие, ластами шлепнувшиеся о линолеум пола ступни; не выпуская из рук стакана, Евгения Клифт шелестящим птеродактилем перелетела на тахту и уже оттуда, будто из далекого прошлого, принялась завывать:Я люблю тебя якобы пылко,
притворяюсь, бесчинствую, вру.
Но порожнее, будто бутылка,
слышишь, сердце свистит на ветру?!
Я страдаю безлюбьем, мне плохо.
Я курю, в голове моей — дым…
И хрустальные палочки Коха
Барабанят по легким моим!
Серый, сонный, терпеливый,
упакованный в метель,
ходит якобы счастливый,
норовит в мою постель…
Я любила милого,
хилого,
унылого!
На крюк его подвесила —
все равно не весело!
* * *
Вагон попался крепкий, еще не расшатанный чистый, с хорошим освещением, какой-то весь жизнерадостный изнутри: светлый пластик источает бодрость, будит в душе пассажира благодарные чувства в адрес ученых-химиков и вообще — вселяет надежду. Повергает в умиление, восхищение и в сыновнюю гордость за весь наш многострадальный, гениальный, экстравагантный и все же такой родной, неповторимый двадцатый век. Правда, кондиционеры на потолке помалкивают, и в прокалившемся на дневном солнцепеке вагоне душновато. Пришлось опустить рамы. Ласковый предночной ветерок поднапер на спрессованный, нутряной воздух, постепенно вытесняя из вагонной атмосферы все непотребное. Вскоре демонстративно закашлял угрюмый тип в черном, «траурном» костюме-тройке, черная борода на белой манишке, под бородой — красный галстук мерцает. И старомодная пижонская трость в руке вибрирует… Окна пришлось позакрывать. На сотню разгоряченных, пышущих здоровьем людей всегда найдется один простуженный, а в поддержку простуженному квелый или вздорный возникает. И глядишь — дебаты… И побеждают в дебатах, как правило, простуженный с квелым. Потому что вокруг — гуманисты, окутанные моральными кодексами, с чувствами добрыми, неизменно берущими верх. По крайней мере, в поездах дальнего следования. Чем дальше дорога — тем гуще замес уживчивости, снисходительности. А наши, российские, в частности сибирские, дороги — самые длинные. Оно и справедливо, что гуманисты кругом. И очень разумно. Покой в результате. Тишина и миролюбие. А случись обратное, оседлай наши помыслы и поступки ярость тысячекилометровая, злоба немеркнущая — что от нас останется в вагоне? Одни пожитки ненужные, скарб скорбный. Выражаясь эрудированно — багаж. Всего лишь. Однако самое неожиданное, а в результате и самое печальное для меня заключалось не в том, что один из моих соседей оказался якобы простуженным человеком, а в том, что этот временно кашляющий мужчина представлял собой ярко выраженный образчик… дорожного проповедника. Его бы и осадить сразу, заткнуть ему, как говорится, фонтан, да вот беда: поначалу-то попробуй догадайся, что перед тобой проповедник. Может, просто взволнованный человек. Подвыпивший. В дороге-то люди часто на себя непохожими делаются, потому что перемены в образе жизни наступили, понесло потому что, пошло-поехало. Только держись! И вот, когда ты его, проповедника рьяного, постепенно осмыслишь, раскусишь, рассечешь, то и разоблачать его станет как бы уже поздно, как бы уже совестно тебе схватываться с ним. Из боязни обидеть, оскорбить незнакомого пассажира, и сидят люди, склонив головы долу, терпят муки танталовы. Внимают… Устроился я на верхней полке. Отвернулся к стене. И вдруг в себя пришел, отчетливо почувствовал: еду, удаляюсь от Юлии, одновременно приближаясь к родному порогу, к себе бывшему, наивному, жалкому, увозя образ Юлии с собой не как болезнь, но как бы диплом об окончании неких курсов мудрости. Усмехнулся, ощутив доброту жизни… Что ни говори, а неизбежно от нее компенсацию утраченного рано или поздно получаешь. Заболел — выздоровел. Оголодал — подзаправился. Охмурил себя зельем каким — глядишь, очухался по утрянке, в норму поведения входишь, душа от мерзости, будто собачонка от мокрого, отряхивается. Женщину любимую потерял — память о ней разум твой воспитывает, чувства шлифует. И так — с любой точки жизненной утешение прослеживается: не было тебя в мире — появился, возник; устал жить, исстрадался, надоел людям и себе самому — погас, ушел, в земле затворился. Все шестеро обитателей нашего купе уснули, не познакомившись друг с другом, оставив эту неизбежную процедуру на утро. А когда оно брызнуло по окнам вагона рассветными искрами — все уже были как бы «своими» (по крайней мере, жильцы нашего отсека). Ночью по вагону бродило какое-то четвероногое существо. Низкорослое. Стелющееся. Привставало на «цыпочки» задних лап, приветливо заглядывало в лица спящих. Как бы кумекало. И, не издав ни звука, перемещалось в поисках чего-то или кого-то. На рассвете из соседнего вагона-ресторана пришла заспанная официантка средних лет, певуче позвала, будто птица водоплавающая закрякала, запиликала: «Кли-и-ент! Кли-и-ент! Кли-и-ент!» Выманила из-под лавки животное. Увела в ресторан. То ли кошку, то ли собаку. То ли гибрид какой, современный. А может, пушнинное что-то… На шапку отращивала. Первые признаки жизни в купе подал проповедник. Не вылезая из-под одеяла, причесал и взбил гребешком черную бороду, суетливо ощупал карман черного пиджака, вынул из-под подушки плоский рыжий бумажник, затолкал его куда-то в брюки. Потом и сам в эти брюки залез. И, не сходя с места, до посещения туалета, ни к кому конкретно не обращаясь, начал вещать, повесив бороду на рукоятку трости: — М-мня-я! С приходом в нашу, извиняюсь, повседневность, отягощенную буржуазной наследственностью, в нашу, пардон, дремучую, аграрную сущность, с приходом в нее послереволюционной гуманистической морали в корне изменилось и наше отношение ко всему живому на земле. И к собакам — в особенности. М-мня-я! Забегая вперед, скажу: многие из нас поначалу приняли Подлокотникова за кочующего лектора, блуждающего по стране от общества «Знание». Однако — ошиблись. Проповедник, коего чуть позже окрестили мы (я и Купоросов) лаконичной, по выражению Фомича, «кликухой» — «Мня», работал инкассатором. Жил замкнуто, молчаливо. При казенном оружии. Дело имел чаще всего с денежками шуршащими, нежели с людьми говорящими, коих сторонился (вначале — по инструкции, затем — по привычке). Пребывая в вынужденном отшельничестве, наверняка многое передумал, обмозговал. И с некоторых пор хотелось ему поделиться мыслями, но опять же — с кем? Не с казначейскими же билетами диспутировать? Скорей всего — пробовал на домашних набрасываться с лекциями, однако родные-близкие быстренько позатыкали ушки — кто чем: равнодушием, притворством, злобой. И я полагаю, что прорывало Подлокотникова чаще всего в отпускное время, на курортах, в дороге, то есть на людях случайных, ничего о проповеднических склонностях Подлокотникова не подозревающих. Демократичный, резво живущий Купоросов, владевший нижней полкой и уступивший ее еще с вечера бородатому проповеднику, проснулся на втором этаже, насупротив от меня, весело приложился широким лбом о третью, багажную полку, долго не мог понять, о чем распространяется Подлокотников, и, поприветствовав меня металлической улыбкой, сокрушенно вздохнул, покатав по казенной подушке ушибленную голову. — Знал бы, какой он речистый, никогда бы не уступил. Понимаешь, Венечка, в сумерках за немощного принял: борода, посох, одежда хмурая — старец! А он глядите какая бормотуха! Говоруха какая… Да и лет ему не более моего. — Фомич, со своими призрачными, редчайшими — наперечет — волосами на голове, словно и без волос вовсе, обильно татуированный, без опеки солидного кожаного пиджака, в затхлом исподнем, видок имел подозрительный, барачный, и не прозревшие после ночного затмения обитатели купе настороженно посматривали на Купоросова, прикидывая, как себя вести в компании подобных людей. Вторую дефицитную (нижнюю) полку занимал поселившийся непосредственно подо мной некий Марк Ароныч Фиготин, прозванный чуть позже (не без инициативы Купоросова) Макаронычем. Манеры его да и внешность (крупный, подрумяненный нос, большие, вылупленные, «откровенные» глаза, отвислая, сарделькой, нижняя губа) делали его похожим на клоуна, и не просто, а на клоуна грустного… Скорбного. Глядя на Макароныча, в голову приходила известная строка из оперы Леонкавалло: «Смейся, паяц, над разбитой любовью». Макароныч шутил сквозь слезы. Но — шутил. Скорей всего, пользовался остатками былой жизнерадостности, вытесненной из организма более поздними разочарованиями. В своем купейном закутке возле подушки Макароныч подвесил на крюк нитяную, базарную сетку, битком набитую лохматыми, ветхими книжками приключенческого содержания, и время от времени, как печенье из пачки, вынимал по одной и очень быстро обрабатывал, то есть — читал. Когда Подлокотников благополучно завершил «Слово о братьях меньших» и, хлестнув себя по шее казенным полотенцем, решительно направился в туалет, Макароныч, скорбно улыбаясь, преградил проповеднику путь: — Вы забыли напарника. — То есть?! — встрепенулся Подлокотников. — Освежите ему набалдашник. — И протягивает чернобородому бугристую палку, напоминающую тощего человечка. — Мня-я… — хватает палку Подлокотников и уводит ее в туалет, беззлобно похмыкивая. Купоросов, одобрительно крякнув, слезает в исподнем с «нар» (его словцо) и начинает прихорашиваться, причесывать свои, невидимые миру, считанные волосики. Тем временем закопошились лежащие на боковых, вдоль движения поезда, местах остальные члены вагонного клана: наверху — студент Пепеляев с напускной, наружной угрюмостью на здоровом, выспавшемся лице, ниже его — тихий, незаметный старичок негородского обличья, по фамилии Чаусов, в пятирублевой красной рубашке — вся в мелких полевых цветах, рубаха-букет. Студент Пепеляев в стройотрядовской, цвета хаки, униформе, с лицом, упакованным в гримасу превосходства над окружающим его миром, с момента посадки до нынешнего рассвета не произнес ни единого слова, не сделал, забравшись под простыню, ни одного ощутимого, резкого движения. Из жильцов нашего купе этот Пепеляев раздражал меня больше всех, хотя являлся чуть ли не моим сверстником; с первого взгляда не понравилась мне его напряженная, заострившаяся физиономия, настороженно спавшая или притворявшаяся спящей, полузадернутая простыней, так и не сползшей с лица за всю тряскую ночь, словно зацепившейся за воинственно оттопыренный нос Пепеляева, как за гвоздь. Утром, после того как Мня-Подлокотников прочел всем и одновременно никому лекцию о социалистическом гуманизме, студент Пепеляев демонстративно прихлопнул сложенной в «дощечку» газетой неуклюжего шмеля, проникшего в вагон еще с вечера, а с рассветом упрямо бившегося в закоптелые окна. Прихлопнул, свалил шмеля на пол и растер насекомое подошвой кроссовок. — Ужалил? — хохотнул Макароныч. — Шмели не кусаются, — прошелестел морщинистый, замшелый Чаусов. На что студент Пепеляев презрительно фыркнул, демонстративно закурив. Прямо в купе. Не сходя с места. Откровенно всех презирая. А там и песенку засвистал. И даже пропел нехотя, сквозь зубы, с десяток слов:Получили дьяволята комсомольскую путевку
и винтовку со штыком, и винтовку со штыком…
* * *
Перед тем как сбежать от Юлии, которая не только не удерживала меня, но и не подпускала к себе ближе чем на метр, в один из выходных дней предпринял я наиболее отчаянную атаку на ее сердечко. Не то чтобы терпение лопалось — вера в себя прежнего ломалась. Лето на севере острова короткое. Дней пятьдесят. Яблоки с грушами, не говоря о бананах, созреть не успевают. Чего не скажешь о ягодах. Черника-голубика, ежевика с княженикой возле жимолости, морошка или просто клюква с брусникой, робкая земляника, а сверх всего малина и пропасть разной смородины. Короче — для медведя раздолье, для городского человека — пропахшее багульником счастье. В миниатюре — недолгосрочное, и все же блаженство. Конечно, при условии, что упомянутый человек обретается в лесу или на марях-болотинах не один, а хотя бы с… собакой. Юлия соглашалась на прогулку медленно, трудно. После минутного раздумья вздохнула и еще пять минут курила. Молча. Затем поставила условие: взять с собой Евгению Клифт. Я и на это пошел, втайне надеясь, что косолапая, рассеянная поэтесса завязнет где-нибудь в густом пихтаче, заблудится в стланике, отобьется на какое-то время и я успею переговорить с Юлией по душам, а главное — наедине (окружающий бессловесный мир — не в счет: слава богу, ни деревья, ни птицы, ни ручьи прохладные стихов не пишут, а главное — не читают их вслух). Нашей прогулке немало способствовала ее доступность: случись задумать подобную вылазку где-нибудь в Ленинграде или Москве, с непременной электричкой и прочими видами транспортного мытарства, — ничего бы не вышло. Отказалась бы Юлия наотрез. А здесь, на острове, в городке нашем юном, пешком до Тихого океана — километр; до кедровых орешков рукой подать: под окном растут; до лиственничного бора пятьсот метров, а до березки горбатенькой, причудливой, «каменной» — и того меньше. Ежели над этим недоразвитым лесом на цыпочках приподняться, далее, за березничком, можно увидеть душистую, мшистую марь. Все здесь близко, все здесь низко, доступно. Все несколько жалобней, нежели на материке, в смысле древесной растительности. Маломощное все и как бы больное. Изнутри редкое дерево не почернеет к десяти годам. А все — морозы, бураны немилосердные, почва, на большую глубину промерзшая. Соки, коими живое на этой земле питается, слишком охлажденные, ледовитые. Зато уж все под боком, рядом все. Возле. Лес на огороде, болото в палисаднике, за околицей — море, а в конуре собачьей — волк, а то и росомаха дежурит. Безо всякой цепочки принудительной. А главное опять же — электрички штурмовать не надо. А значит, и Юлию уговаривать по ягоды слетать — не такое уж фантастическое дело. Порадовала Евгения: в самый последний момент позвонила из номера местной гостиницы и в лес идти отказалась. Приехал из столицы какой-то внимательный человек мужского пола, который согласен слушать стихи. И тут Юлия заколебалась. Уходить в тайгу с глазу на глаз со мной, то есть с мучительно влюбленным в нее человеком, считала небезопасным. И тогда я притворяюсь смирившимся. Чешу в затылке, зеваю, клонюсь долу и, как бы между прочим, снимаю на полу трубку с аппарата. — Евгении Клифт позвоню. Скажу, что ягоды отменяются. — Не вздумай! — запрещает Юлия. — Новые стихи прочтет… С приезжим познакомит. — Нет уж!.. — меняется в лице Юлия, должно быть представив скрежетание голосовых связок поэтессы. — Я одеваюсь, Венечка. Бери кузовок. Сперва по серебристому мху-ягельнику, устилающему тонким, дырявым слоем продутую ветрами, лысую землю, — блуждали овалами холмов, поросших по южным склонам кедровым стлаником. Нашли даже прошлогоднюю шишку с уцелевшими орешками, не опустошенную бурундуками и леммингами. Понаблюдали за одним из этих грызунов. Бурундук, привстав на ветке, замер столбиком, с «нескрываемым» любопытством посматривал в глаза Юлии, прекратив шевелить челюстями и набрякшими защечными мешочками. В свою очередь, Юлия долго, не двигаясь и не произнося ни слова, без тени улыбки всматривалась в зверька. И вдруг глаза ее увлажнились. Признаться, не ожидал я от нее… слез умиления. И тут она прошептала: — Мы… только люди. Всего лишь. Я уверена, что все живое мыслит. По-своему, конечно. Любой муравьишко — чудо. А в муравейнике даже свои гении есть. Что он хотел нам сказать, этот полосатенький? — кивнула Юлия в сторону бурундучка, заспешившего прочь с ветки на землю и дальше — на другой куст кедрача. И тогда я решил, что подходящий момент настал. Пора объясниться, «раздеть» перед Юлией сердце раз и навсегда. — Я знаю, что он хотел нам сказать. По крайней мере — догадываюсь. Он сказал, что необходимо… полюбить! Нам, друг друга. А через это и весь окружающий мир. Весь муравейник. И полосатенького в том числе. Юлия беззлобно усмехнулась. Как бы прощая бестактность, допущенную кем-то забавным, из того же муравейного ряда, скажем, пролетавшей над ее священной головой птицей кукшей, не более того. — Любовь, Венечка, насылается свыше. Она — дар! Ее не купишь, не изобретешь, не догонишь на моторе, не выклянчишь. Ни на Северном полюсе, ни в Летнем саду. — Понимаю. Умом. А сердцем чую… ее тепло. Различаю ее… даже в твоих безвоздушных, минеральных глазах. Ты — женщина, Юлия. Дитя человеческое. И тебе пора полюбить. Чтобы родить дитя. Эстафета живого огня. — Слишком спокойно говоришь, Венечка. Вещаешь. Как робот. Хотя и красиво. Внушительно. — Боюсь потому что. Настороже все время. — Кто любит — тот ничего не боится. Седая истина. А про дитя, Венечка, я тебе так скажу: не моя это судьба — ребенок… Не моя планида. По Фрейду, Венечка, все женщины на два вида делятся: на «М» и на «Б». Так я не «М», Венечка, нет во мне материнского начала. И вообще себя еще не построила. А ребенок возникнет — не оторвешь его от груди. Срастется. Отяжелею сразу. А меня и одну… ноги едва держат. И вообще, Венечка, на что ты меня подбиваешь? Ребеночком обзаводиться… при живом-то муже?! А как же мораль? Грубо. Не настолько я «современна», как это может показаться со стороны. И потом… неужели в наших с тобой отношениях нет ничего… неповторимого, оригинального? Неужели мы… как все? Ты — «как все»? — Нет… я с луны свалился. С тарелки летающей. У меня сердце из молибдена! — Да господи! Неужели тебе не противно повторять пройденное миллиардами ходоков, ступать след в след?! Да обнимайся ты с кем угодно, только не со мной! Притворись хотя бы! Непохожим… А? Только не справляй со мной никаких обрядов и… нужд. Хотя бы со мной… не стремись к разочарованию. Не убивай прелесть недосказанности. В наших с тобой отношениях больше было детского, нежели в любом ребенке, хлебнувшем жизни. Поступи со мной… священно. Хотя бы со мной. Отнесемся друг к другу бережно, сказочно, поэтично… Ну как там еще? Фантастично! Представь, что я не такая, как все. Что я выдумана тобой. Нарисована воображением. Повосхищайся мною подольше. А уж потом — как небу угодно. Всякий раз, вспоминая при случае нашу ягодную вылазку, не могу зацепиться воображением за что-нибудь конкретное из того мгновения, после которого потерял в стланике из виду красную в белый горошек косынку Юлии… Нагнувшись за чернокожей водянистой ягодой шикшей, произносил я пламенную речь о гибели интеллекта, лишенного питательных соков (или токов) любви, как вдруг ощутил… вселенскую тишину, запредельную, вне пространства и времени пустоту: исчезла Юлия! Ни шороха от ее стиснутых кедами ног, ни лепета ее одежды на ветру, ни музыки ее слов, ни ворчания мысли в этих словах. Как будто… зуб больной вырвали! Боль ушла, а печаль потери — осталась. Хотел «ау!» крикнуть — не получилось. Лопнуло что-то в речевом механизме. Звуки размазались. Вышло нечто, напоминающее старинный панический вопль: «Караул!» И тогда бросился я с обветренного холма в распадок, туда, к благоухающему болоту, откуда по ветру доносилось гудение мириадов насекомых: стрекоз, мошек, комаров, шмелей, мух, жучков и прочей крылатой россыпи. К тут Юлия подала голос, резко так вскрикнула, будто птица. Именно оттуда, куда я по наитию стремился, — из топи волосатой, сочно поблескивающей серебром влаги, из пряных, дурманных мхов, зазубренных лезвий осоки, торчковых камышин, увенчанных сигарообразными шишками. А произошло вот что: Юлия провалилась в «окошко», в черный просвет в трясине и теперь медленно уходила в глубину немереной бездны. То есть — тонула. Так, по крайней мере, казалось мне. Когда я вынесся на ее крик, над разметанной, прорванной руками Юлии бледно-зеленой ряской торчала всего лишь беспомощная голова Юлии в ярком платочке, этакий праздничный шарик надувной, сорвавшийся с нитки и прижатый тяжелым ветром к болотной жиже. Мгновенно сообразил я, что вытащить Юлию, погрузившуюся так глубоко, вряд ли уже удастся. Глаза мои забегали, шаря под ногами в поисках чего-нибудь древесного, твердого. И тут взгляд мой вдохновенно скользнул по тощей, неживой сухостоине костяной прочности. Мгновенно повалил я мертвое деревце, так кстати подгнившее возле основания. И, опираясь на двухметровый костыль, шагнул в воду… Навстречу Юлиной голове. Которая почему-то все еще торчала над водой. Перестав погружаться, Юлия долго смотрела на мои неуклюжие усилия пробиться к ней. И вдруг… громко захохотала. Сердце мое сжалось. Неужели — истерика? И тогда плюхнулся я навстречу ее холодному смеху, толкая перед собой легкий, обглоданный ветрами шест. Пять минут спустя я все еще думал, что спас ее, что совершил нечто незабываемое… и рассчитывал если не на медаль, то на благосклонную улыбку Юлиных глаз. Но глаза эти молчали. В них переливалась беспощадная ирония. Позже Юлия призналась, что стояла… на льду. Как на бетонном основании. Под ногами — вечная мерзлота непротаянная. Спасительная. Вот Юлия… и замолчала, не изошла на крик. Оказывается, за время «гибельного процесса» только в первые секунды ужаснулась, по-настоящему струхнула. А потом, когда в лед уперлась, опору под собой осознала — моментально повеселела и даже забавный эксперимент решила произвести. — Захотелось мне, Венечка, понаблюдать за тобой: как ты спасать меня будешь? Очертя голову ринешься или по размышлении некотором? И вот что я уловила: нерешительно действовал, Венечка. Прикидывал, смекал. То есть — нормально спасал. С умом. Не как донкихот какой-нибудь, зачумленный бескорыстием. Потому и прощаю тебе, что нормальный ты, Венечка. И еще знаешь, почему прощаю? Представила себя на твоем месте. И так… неинтересно, невесело сделалось, неуютно так… Бедненький!* * *
Где-то на подступах к Байкалу, когда за окнами вагона проплывали плавных очертаний «мягкие» горы Бурятии, в нашем купе, а точнее, в моем воображении набрякла атмосфера нервозности. Мне все казалось, что кто-нибудь, скорей всего студент Пепеляев, возьмет да и потребует, чтобы я… наличные денежки ему предъявил! Как документы. А денежек нету. И ведь поди ж ты, не страдал я прежде излишней мнительностью, а тут насторожился. Как будто дурную болезнь контрабандой вез. Тайно от всех. Подвергая здоровое общество опасности. А и впрямь, согласитесь, в «птичьих правах», которыми я обзавелся на время дальней дороги, было что-то ущербное, если не постыдное. Во всяком случае — не мужское… Однако не встанешь во весь рост, по радиотрансляции поездной не выступишь: так, мол, и так, граждане хорошие, были денежки, да сплыли, на пароходе «Помяловский» непонятным образом испарились. В итоге моя природная внимательность, лишенная казначейской поддержки, обострилась до предела и напомнила собой некую страсть. Я стал не просто подмечать, но как бы даже следить за происходящим. И вот что я усек прежде всего: попутчики мои по мере приближения перекуса начинали как бы вежливо стесняться друг друга. Правда, длилось это недолго. Минут пять. Старательно ерзали, кряхтели, озирались по сторонам, чаще всего поглядывая на потолок или — сквозь стекло — на плывущую в обратном направлении «природу». Затем все сразу и как-то отчаянно принимались шуршать бумагой, полиэтиленом пакетов, робко разворачивая припасы. И вдруг, осмелев, в «едином порыве» прощая друг другу минутную слабость, сливались провиантом воедино, найдя точку соприкосновения в улыбке, слове, кивке. На первом же таком стихийном завтраке попытался я увильнуть в сторонку от дразнящих запахов и жестов, отметив во рту закипавшую слюну. Но сметливый, а может, и впрямь добрый Купоросов ловко меня переубедил в моем отшельничестве, не произнеся при этом ни одного приглашающего к столу слова. В момент, когда я панически вознамерился приподняться с лавки, в самом зародыше неотвратимой всеобщей трапезы, Купоросов легонько прижал меня плечиком к сиденью. И тут же умоляющим и одновременно усмиряющим взглядом по глазам моим мазнул! И я мигом сдался. Всякую предосторожность психологическую враз отмел. Но как выяснилось позже — расслабился я совершенно напрасно и преждевременно. Первым попытался разоблачить меня студент Пепеляев. Сразу после того, как отпили чай, проводница понесла по вагону газеты с журналами. В этот момент Купоросов вышел курить. Глаза мои с вожделением потянулись к печатному слову. Тут же я осадил в себе читательский порыв или зуд. Однако не чисто сработал. Не профессионально. Органы зрения вовремя не зачехлил, не захлопнул. И студент Пепеляев успел-таки загоревшийся в них огонек зафиксировать! Меланхолически напевая про своих романтических дьяволят, Пепеляев обратился ко мне: — Игнорируете? Или… грамоте не обучены? — Очки поломались, — отвечаю студенту. — Стекла насквозь протер. Тряпочкой. А вообще — конфетная болезнь. Слыхали о такой? — Диабет, что ли? — Это когда на конфетной фабрике работаешь… и сладкого в рот не берешь. О селедочке мечтаешь. — Журналист? Или наборщик? Тоже мне — теория… Я на ликеро-водочном в прошлую практику лето продержался. Так что нагляделся. Конфетная болезнь! За уши не оттащишь иного. От продукции… По вагонам прошлась лоточница с какой-то дребеденью в корзине. И все что-нибудь купили у нее. Кто вафли, кто разовый пакетик растворимого кофе, кто яйцо вареное. Студент обрел курево и, треща целлофаном упаковки, иронически посмотрел на меня: — А вы что же… не курите? Не похоже на вас, — и раскупоренную, пачку сует мне под самый нос. А мои «Столичные» возле Благовещенска кончились. И я уже пару чужих хабариков в тамбуре подобрал — мундштук на спичечном огне прокалишь и за милую душу употребляешь, потому что не всякий раз одновременно с Купоросовым «до ветру» выходить удавалось. У студента Пепеляева сигарету я не взял. Перебился. Сказав ему только: — Я эти… импортные в гробу видел. Кашель от них. В основном «Столичные» приемлю. — Патриот? — усмехнулся Пепеляев. — Ну-ну… И тут, когда уж я буквально созрел для скандала, лихорадочно высматривая на Пепеляеве доступные места, за которые можно было хвататься, в вагоне опять появилось это странное существо по кличке Клиент, этот гибрид собачонки с горностаем или хорьком, появился, обнюхал наши с Пепеляевым напружиненные ноги, звеневшие наэлектризованными мембранами штанины, и чую — отпустило! Отдало помаленьку. Сникло напряжение. У обоих. Такая замечательная нейтрализующая тварь этот Клиент из ресторана. Будто сердечник магнитный меж мной и студентом прошмыгнул и всяческие вихри враждебные унял. Вот тебе и неразумная тварь. Невозделанный мозг. Не распухший от информации. А значит, и не отравленный гордыней. Однако атмосфера настороженности, пропитавшая, как мне казалось, наше купе, а фактически — только мой безнадежный мозг, с приходом, а точнее, с промельком Клиента не рассосалась. Во всяком случае, ощущение пустоты в моих карманах не исчезло. И я уже подумывал, а не переместиться ли мне в другой вагон, забившись там на третью багажную полку и замерев, насколько голодного терпения хватит, как вдруг остановка. Где-то недалеко от Байкала. Кажется, на станции Слюдянка. Очень короткая остановка. Никто, кроме студента Пепеляева и постоянно бегающего в туалет старикашки Чаусова (по профессии — лесного сторожа, выбравшегося из тайги на побывку в Москву, то ли к внучке, то ли к правнучке), никто, кроме них, из нашего купе на этой станции из вагона не высунулся. Поезд, брезгливо вздрогнув телом, вскоре опять пошел своей дорогой, а старичка Чаусова нет и нет. Примчался Пепеляев. Нос презрительно вздыблен, на губах скептическая судорога извивается. Смотрю, мгновенно унял в себе взбудораженность, иронически хмыкнул, поставив на столик… бутылку с прозрачной жидкостью — без этикетки и государственной затычки. — Вот… Ха! Байкальская водица. Слеза. Полтинник пол-литра. Умелец говорит, что целебная. Угощаю. — Мн-яя-я, — вступил Подлокотников, намереваясь, как видно, прочесть небольшую лекцию на тему о прибайкальском регионе. — Неужели… того — продают? — засомневался Макароныч, выныривая из детектива. — Раньше, в другие времена, поезд у самой воды останавливался. Под скалой. И все к воде бегали. Иные даже скупнуться успевали. Там еще знаменитая скала… С изображением генералиссимуса. Слыхали? — А старичок-то наш, лесовичок, похоже, отстал, — еще презрительнее заулыбался Пепеляев. И тут Купоросов, ни слова не говоря, срывается с места и куда-то убегает. Еще через пару секунд неразогнавшийся состав довольно ощутимо сотрясается, будто лбом в стенку прикладывается. А еще минут через пять появляется старик Чаусов, взъерошенный, малость не в себе. Тут же Купоросов в окружении железнодорожных людей. В воздухе мельтешат слова и целые фразы: «Штраф!», «Безобразие!», «Что хочут, то и делают!». — Велик ли штраф? — довольно бесстрашно интересуется Чаусов. — Представляете?! — веселится Купоросов. — Пожилой человек, участник Великой Отечественной! За поездом бежит! Полкилометра… Да за такое не штраф, за такое — грамоту! Медаль спортивную. Постепенно страсти утрясаются. Официальные лица линяют, тушуются. — Мня-я, — теребит, подбрасывает снизу, от груди, ладонью черную, беспросветную бороду проповедник. — Как же это вы так, папаша? Бегаете… Несолидно. Живчик какой. В вашем возрасте, извиняюсь, а также положении рекомендуется что? Покой. А ежели, к примеру, животом страдаете, рекомендуется… — Да погодите вы со своими рекомендациями, — улыбается Купоросов, слепя присутствующих металлом зубов, да так, что некоторые из них жмурятся. — Радоваться нужно, что такой… подвижный, такой живучий дедушка попался. Другой бы в лежку всю дорогу лежал. Скулил бы. Кряхтел. И… прочие дела. А этот бегает. Хотя… вообще-то, дедуля, ежели не секрет, поясни гражданам причину своей необычной энергичности. Женьшень? Или панты? Чаусов смущенно покопался в седенькой щеточке усов, хехекнул отрывисто. — Чего бегаю? А пучит. Вот и бегаю. Тесно тут. Растрясло — спасу нет. Мотает… В лесу-то раздолье. Привык один. С птичками да собачками. А тут — опчество… Вот и бегаю. Поджимает потому как. Пепеляев, должно быть, на правах непосредственного соседа (верхняя боковая над нижней боковой Чаусова), усевшись за столик напротив старика, налил Чаусову полстакана воды из бутылки, плеснул и в свой стакан. — Ваше здоровье! — усмехнулся Пепеляев снисходительно. — Из священного моря водица. Пробуйте. От нее, говорят, не токмо бегом бегают, но и вообще молодеют! — Неужто байкальская? — За что купил, за то и продаю. Полтина пузырек. А что, дедуля, конечно же воевали? В Великую Отечественную? — Довелось… — Тогда расскажите про героический поступок. — Но понял тебя, сынок… — Ветераны что делают? В основном — вспоминают. И правильно делают. Потому что — из первых рук. Достоверные сведения. Не чета лекторам самозваным, — кинул Пепеляев презрительный взгляд на Подлокотникова. — У каждого, кто воевал, непременно для аудитории свой героический поступок имеется. Разве не так? — Не было у меня… героического. Обнакновенно служил. Без поступков. — Как же так? — покровительственно улыбается Пепеляев. — Небось награды имеете? А награды за что? За поступки. Ордена у вас есть? — Нету орденов… — заспешил руками Чаусов, пуговицы на рубахе проверил, усики на губе подвинул, взялся за стакан, отпил водицы, почмокал удовлетворительно, как бы смакуя, пытаясь глазами серенькими, виноватыми увильнуть от наседавшего Пепеляева. — Медали, этто… имеются. «За отвагу», за Вену… Город такой австриякский. Был и орденок. Ежели откровенно. Да… потерялся. А может, сперли. Которые туристы. На кордоне-то у нас не запирается домок. Иной раз по суткам не почуешь. То с ружьишком, то в провожатые наймут-упросят веселых гостей сопровождать. Иной раз вернешься — ничего: замечаешь, что побывали туристы-то. Однако — аккуратно. Посуда помыта. Даже подметено. А иной раз — набезобразничают… — Какой орденок-то? — А такой… белого металлу. Звездочкой. На георгиевской ленте. — Орден Славы?! Ну даете… — Мня-я… — вздохнул Подлокотников, а невеселый юморист Макароныч, не отрываясь от детектива и наверняка мотая на ус происходящее, осведомился: — Книжечка орденская сохранилась? — Книжечка при мне, — еще пуще засуетился Чаусов, залезая поочередно во все таящиеся у него карманы и ничего существенного не находя. — Книжечка имеется… — Тогда вы — кавалер. На законном основании, — утвердил Подлокотников, как бы закрывая тему. Купоросов отреагировал по-своему. Все эти тягостные минуты, в которые студент Пепеляев теребил старика Чаусова бесцеремонными вопросами, татуированный землепроходец сидел, облокотясь двумя руками о столик и наглухо зажав себе голову ладонями, словно сдерживал таким способом закипавшие в голове мысли. Но вот он ослабил тиски рук, вынул из них голову — кровь, разъедавшая гневом щеки, не успела отхлынуть, а на губах и в глазах Купоросова было уже тесно от улыбок. — Послушай, студент… Отхлынь от папаши. Заколебал до полусмерти. И Чебурашке ясно, что такой знак без героического поступка не дают. Сядь, поразмысли. Здоровеньки булы, как говорят в Могилеве. Чаусов опрокинул в себя из стакана последние капли байкальской воды, крякнул забористо и, не зная, куда руки девать, пробормотал: — Орденок энтот апосля войны… аж спустя много лет выдали. В военкомате. Я и не помню — за что? За форсированье будто… А мало ли тех форсирований было в сорок-то четвертом? За какое именно? Наступали, эка перли! Войне отлив уже был… А все равно — драка до последнего. Уцепишься за бережок… Будто зубами. Засыплет, бывало, песком, глиной облепит. Лежишь, ни с места. Покуда свои не подтянутся. А живой ты или мертвый — сам не знаешь. Потому как в кровище весь. И… без понятия-разума. Спервоначалу, как потерялся орденок, помалкивал я… в тряпочку. Боязно было. Не спал. А ну как влетит! Серебро в ём… Чай, Верховного Совета выдача!.. Потом ничего, привык. Вот ежели б я его продал или прохитрил как… Тогда понятно. А так — за што? Студент Пепеляев удовлетворенно откинулся от столика в угол, подбросил еще выше свой задиристый нос и, выбив из пачки сигаретку, победно оглядел собравшихся, как бы уточняя: «Ну, что я вам говорил?!» Во всяком случае, на меня лично события с остановкой поезда и последующим переключением всеобщего внимания на старика Чаусова подействовали успокаивающе. Безденежье мое при таких отвлекающих вспышках как бы и вовсе не просвечивало. ...Все права на текст принадлежат автору: Глеб Яковлевич Горбовский.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Скачать или читать эту книгу на КулЛиб
Скачать или читать эту книгу на КулЛиб