Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
Цынман Иосиф Израилевич Бабьи яры Смоленщины. Появление, жизнь и катастрофа Смоленского еврейства

Эта книга появилась благодаря финансовой и моральной поддержке автора Генеральным директором ПО «Кристалл» Юрием Николаевичем Ребриком. Помощь в финансировании издания книги оказали: председатель Смоленского городского Совета Виталий Владимирович Вовченко, глава администрации города-героя Смоленска Иван Александрович Аверченков, директор Смоленского деревообрабатывающего комбината Борис Семенович Пустильник, директор Рославльского вагоноремонтного завода Юрий Александрович Черняк. Автор выражает им глубокую признательность. Иосиф Цынман
ОБ АВТОРЕ

Есть люди, которых в народе называют емким, прекрасным русским словом — подвижники. Они по велению совести, зову сердца исследуют природу, историю родного края. Оставляют после себя музеи, собрания произведений искусства, книги, другие духовные ценности. К их числу, несомненно, принадлежит Иосиф Израилевич Цынман, краевед-исследователь, член Союза журналистов России, инженер по образованию, педагог. Он родился 7 июня 1919 года в деревне Заречье недалеко от Мстиславля. Отец — рабочий-кровельщик. Детство И. И. Цынман провел у деда — крестьянина-земледельца. В 1924 г. вместе с родителями переехал в Смоленск. Получил среднее образование. С 1937 по 1942 год учился в Московском нефтяном институте им. Губкина. В годы войны строил оборонительные сооружения в Москве, работал на нефтепредприятиях, снабжающих фронт горюче-смазочными материалами. В 1947 году возвратился в Смоленск. Работал на нефтебазе, шиноремонтном заводе, в Смоленском совнархозе, специальном конструкторском бюро источников тока. Затем преподавал технические дисциплины в экономическом техникуме. В 1981 году издательство «Высшая школа» выпустило учебное пособие «Промышленные материалы», одна из глав которого написана И. И. Цынманом. Занимая различные должности, И. И. Цынман активно участвовал в краеведческом движении, много ездил по родному краю, несколько раз посещал истоки Днепра, Волги, Вазузу. Был во всех районах, многих деревнях и памятных местах области, настойчиво изучал историю малой родины. Часто выступал на страницах областной печати со статьями на актуальные экономические темы. В 1954 году заочно окончил географический факультет СГПИ. В последующие годы в центре его краеведческих интересов, поисков были события минувшей войны, геноцид еврейского населения на территории Смоленщины, проблемы сохранения памятников истории, культуры, природы. Не обойдены вниманием краеведа вопросы экологии, возрождения сельского хозяйства, старых ремесел, зерновых культур, в частности гречихи и масличных культур. Многие публикации И. И. Цынмана перепечатывались районными газетами. И. И. Цынманом написаны книги (машинопись): «В бассейне трех морей — Записки о смоленской деревне» (к ней альбом фотографий интересных мест), «Судьбы евреев Шумячского района», сданные им в отдел редких книг Областной универсальной библиотеки. Несомненно, книга, которую держит в руках любознательный читатель, представляет определенную ценность, как научную, так и познавательную, источник знаний по истории нашей малой родины, милой сердцу Смоленщины. Она возвращает нас к тем страшным временам второй мировой войны, составной частью которой является Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков, поставивших своей чудовищной целью физически уничтожить еврейский народ. В книге собраны бесценные документы, свидетельства очевидцев, когда в многочисленных «бабьих ярах» гибли люди, главная «вина» которых была в том, что они евреи. Написанные кровью, человеческой болью воспоминания очевидцев страшных трагедий и горя, немые архивные документы призывают нас к бдительности, к тому, чтобы трагедия «холокостов» никогда не повторялась. Все содержание книги И. И. Цынмана «Бабьи Яры Смоленщины» яркое тому подтверждение. Конечно же, не со всеми положениями, высказываниями автора можно согласиться. Но ясно одно — свою позицию он излагает честно, добросовестно, с надеждой, что его правильно поймут, и оценят по справедливости. Уверен, что книга долго будет служить людям, пробуждать их совесть, воспитывать их святые чувства любви к Отечеству, нашей России. И. Н. Беляев, заслуженный работник культуры Российской Федерации, краевед-исследователь, член Союза журналистов России 08.01.2001 г.
О КНИГЕ «БАБЬИ ЯРЫ СМОЛЕНЩИНЫ»
Кажется, все и давно известно о зверствах фашистов на оккупированных территориях, о массовых убийствах стариков, женщин, детей, о геноциде народов всех национальностей, особенно еврейского народа. Ни в чем не виноватые люди уничтожались только за то, что они родились евреями. Но вот новая книга «Бабьи яры Смоленщины» продолжает эту тему, и ее невозможно читать без содрогания, без сердечной боли, без сопереживания. Составителю и автору многих материалов Иосифу Цынману удалось собрать свидетельства очевидцев и оставшихся в живых жертв геноцида евреев на Смоленской земле, что делает книгу правдивой и искренней. Интересно решение темы: от трагедии каждого убитого человека, каждой уничтоженной семьи к трагедии целого народа. Велика социальная значимость книги в плане понимания угрозы фашизма для любого народа, чьи многочисленные дети лежат в общих могилах с евреями или рядом с ними. За евреями последовали бы другие народы, не нужные фашистам для рабского труда, не выиграй советский народ эту кровавую войну, не останови советский солдат эту коричневую фашистскую чуму. Об этом нужно помнить всем людям нашей маленькой планеты, чтобы не повторилась трагедия ни еврейского, ни какого другого народа. Книга — еще одно напоминание о тех страшных временах. В. Рудницкий, член Союза писателей РоссииОТ АВТОРА И СОСТАВИТЕЛЯ
Что заставило меня, не литератора, не писателя, не историка взяться за столь тяжкий для изложения труд, хотя бы частично описывающий то, что произошло со смоленским еврейством? Ответ прост: вряд ли, кто-то другой решится изложить историю появления жизни, катастрофы и исчезновения евреев на смоленской земле. Взяться за перо заставляет и жесткая нехватка времени — безвозвратно уходит последнее поколение людей, уцелевших и пострадавших от ужасов фашизма и произвола досталинского и сталинского режимов. Смоленщина в XX веке потеряла самое крупное национальное меньшинство — евреев, веками проживавших здесь повсеместно. За годы Советской власти евреи да и жившие на Смоленщине белорусы, поляки, литовцы, латыши, немцы, другие народы потеряли свой родной язык, литературу, религию, обычаи, так как они обрусели. Во время Великой Отечественной войны на оккупированной Германией территории Смоленщины были уничтожены все евреи. Одним из самых ужасных событий этой войны стала трагедия Бабьего Яра. Этот незаметный ров на окраине Киева, где в сентябре 1941 года были расстреляны и закопаны живыми сто тысяч евреев, стал символом судеб погибших шести миллионов евреев, символом самого жестокого и варварского человекоистребления. Перед всем миром предстала жуткая картина того, что несет человечеству нацизм. Преступления фашизма не могут и не должны быть забыты. Они продолжают кровоточить и тревожить сердца. Наши воспоминания о том, что пережил еврейский народ, — это ответ тем, кто пытается опровергать трагедии «бабьих яров», газовых печей, пыток и издевательств над людьми только за то, что они были евреями. Мне хотелось, чтобы узнали и о смоленских «бабьих ярах», отсюда и название этой книги. В книгу вошли не только собранные мною рассказы очевидцев, но и разные по времени публикации в периодических изданиях. Благодаря предоставленной Б. А. Симкиным рукописи своих воспоминаний удалось подробно изложить события в одном из районных центров области — Монастырщине. По моей личной просьбе свои материалы в книгу дали архивисты: А. В. Корсак, М. Н. Левитин; краеведы: Л. В. Котов, Е. В. Муравьев из Смоленска, А. Г. Бордюков из Велижа, В. П. Максимчук из Шумячей и другие. В работе над рукописью мне помогал мой сын Борис Цынман. Я хотел, чтобы он продолжал мною начатое дело.Цель книги — оставить память о замученных, расстрелянных, задавленных, потопленных, заживо сожженных и погребенных, умерших от голода и изнурительного труда в гетто, лагерях, тюрьмах, а также о последних, уцелевших от войны, оставшихся безродными евреях Смоленщины, закончивших свою жизнь в интернатах для престарелых или преследуемых соседями, живущими в коммунальных квартирах. Пусть эта книга станет скромным могильным памятником погибшим смоленским евреям.
Началом рукописи послужила просьба руководителей области в 1990 году составить для них записку о «Судьбах национальных меньшинств Смоленщины». Такую записку я им передал. В поисках материалов для рукописи пришлось искать общения с людьми в городах, райцентрах, деревнях, интернатах для престарелых, на конференциях Холокоста в Москве. В начале работы мне казалось, что помощь таких организаций, как «Джоинт», «Холокост» поможет существенно продвинуть появление рукописи и книги. В 1993 году, в Москве, я посетил «Джоинт». Обратился там с просьбой помочь мне с дефицитной в то время пишущей машинкой. В этом мне отказали, но попросили выполнять их работу в Смоленске: составить картотеку бедных евреев, получать и распределять среди них продовольственные посылки, мацу, и главное — найти помещение для Хесед-клуба. Несколько лет я и мои друзья бесплатно выполняли эту работу. Ходили по квартирам, искали евреев и посещали их в интернатах для престарелых, составляли картотеку по формам «Джоинта», распределяли посылки и мацу. Удалось провести 14 интересных встреч с евреями города. Хотелось приобщить к клубу и немногих уцелевших евреев в райцентрах. Я верил: коллективное общение поможет выявить новые факты, события, найти немногих праведников, спасавших евреев. Это поможет издать книгу. К сожалению, один из смоленских семейных кланов-гешефтмахеров, по договоренности с руководителем «Джоинта», оттеснил меня от участия в работе клуба, исключив несколькими голосами без собрания из членов Совета. После этого я лишился очень необходимой мне моральной, финансовой, технической и физической помощи, что сильно замедлило мою работу над книгой. Но нашлись люди, ранее меня не знавшие, которые проявили интерес к моей рукописи, стали в меру своих сил помогать мне. Особенно заботились и помогали мне: В. И. Гитлин, З. Г. Агранат, М. М. Оржаной, В. Ш. Гуткин.
В книге приведены рассказы, очерки, публикации следующих авторов: Аграчева Иудит (Израиль), Базилевский Б. В., Басс М. Я., Бордюков А. Г., Глушкина С., Гордеев Е., Гроссман В. С., Давыденкова М. Л., Егорова Н. К., Жарикова Р. Г., Журавлев В. П., Илькевич Н. Н., Корсак А. В., Котов Л. В., Красновская, Кусельсон Э. С., Левитин М. Н., Львин М., Максимчук В. П., Меженцев Ф. И., Муравьев Е. В., Свинкин Л., Симкин А. Б., Сорина В. М., Трескунов Б. А., Файнштеин В. Е., Фейгин К. М., Френкель А., Хейфец М., Шпильберт А. Д., Шматков Е. И., Оренбург И. Г. И живых, и ушедших из жизни я благодарю за материал о Смоленщине, бескорыстно предоставленный мне. Выражаю огромную искреннюю признательность за то внимание, которое проявил к моей книге Ю. Н. Ребрик, генеральный директор ПО «Кристалл», если бы не его финансовая помощь, мой многострадальный труд не получил бы завершения. Я также благодарен за поддержку и Б. С. Пустильнику, директору Смоленского деревообрабатывающего комбината, В. В. Вовченко, председателю Смоленского городского Совета, И. А. Аверченкову, главе администрации города-героя Смоленска и Ю. А. Черняку, директору Рославльского вагоноремонтного завода.
На протяжении многих лет помогали мне в составлении рукописи работники Смоленской областной администрации, областной Думы, комитетов администрации: по культуре, образованию, науки и технологий. Руководители некоторых предприятий: АО «Смоленск-нефтепродукт», АО «Транзит», Смоленская нефтебаза и других организаций. В заключение перечислю имена простых людей, небезучастных к моему труду, оказывавших мне посильную малую или большую помощь, которым выражаю благодарность: Артамоновой Галине Ивановне, Бадаеву Михаилу Григорьевичу, Беляеву Ивану Николаевичу, Виткиной Софии Наумовне (Израиль), Герасимовой Ирине Степановне, Гиндуллиной Наталье Петровне, Граковой Наталье Владимировне, Елисееву Юрию Григорьевичу, Забелину Алексею Александровичу, Зильберману Михаилу Соломоновичу, Карпицкой Инне Михайловне, Кеженову Николаю Николаевичу, Ковалевой Галине Владимировне, Кравченко Николаю Григорьевичу, Крупеневу Павлу Арсентьевичу, Кудрявцевой Татьяне Викторовне, Лаппо Владимиру Борисовичу, Лишанской Софии Самуиловне, Мамонтову Анатолию Ивановичу, Марголину Анатолию Яковлевичу, Новикову Владимиру Михайловичу, Новикову Якову Львовичу (Германия), Оржаному Дмитрию Михайловичу, Рогацкиной Марине Леонидовне, Рубинову Арону Борисовичу (Израиль), Серовайскому Сергею Давыдовичу, Сиротину Анатолию Ивановичу, Слепцову Валерию Михайловичу, Старикову Николаю Ивановичу, Стерлягову Анатолию Александровичу, Тахтарову Рашиду Рахимовичу (Москва), Файнштейн Любови Израилевне (Москва), Фукс Виктору Давыдовичу, Холопову Валерию Андреевичу, Царфину Виктору Зеликовичу (Израиль), Цурьевой Галине Иосифовне, Цынману Арону Борисовичу (Израиль), Шалыт Марии Григорьевне (Израиль), Шлапаку Любомиру Тадеевичу. И. Цынман
КАТЫНЬ — КОЗЬИ ГОРЫ
Почему в Катынском лесу молился раввин из Польши и звучал шафар?
(Моя версия) И. Цынман Свой первый официальный визит в Россию президент Польши Александр Квасневский начал 8 апреля 1996 г. с посещения польского военного кладбища — места расстрела польских офицеров в Катынском лесу (Козьи Горы). Здесь в строгом соответствии с официальным протоколом состоялась торжественная траурная церемония возложения цветов и венков, а затем богослужение. Молебен отслужили представители католической, православной, мусульманской церквей, а также раввин польской еврейской общины. В молитвах звучала скорбь о погибших в этом страшном месте. Журналисты с радио и телевидения вели репортажи. Впервые в Козьих Горах прошел иудейский религиозный обряд: звучала молитва, раздавались звуки шафара (бараний рог), символизирующие просьбу к Богу о милосердии. Почему, наряду с представителями других религий, здесь молился раввин из Польши? Я считаю, что это результат деятельности смоленских краеведов. У меня были данные, что в Козьих Горах среди расстрелянных людей разных национальностей покоятся русские и польские евреи. На это раньше мало обращали внимание. Десятилетиями русские евреи назывались «советскими гражданами». Доказательств, что среди расстрелянных, польских офицеров были и офицеры еврейского происхождения, не было. Мне хотелось приблизиться к истине. На конференции Холокоста в Москву от Смоленщины посылались случайные люди, не имеющие к Холокосту никакого отношения. Но им на период конференции обеспечивались комфортные условия. Это были штатные статисты различных еврейских мероприятий, они получали приглашения из Москвы. Меня, хотя мое имя с 1991 г. было известно в Яд-Вашеме, и таких как я на конференции приглашали разве что случайно. Только в 1993 и 1994 гг. усилиями Смоленского еврейского центра и его идейного вдохновителя Кивы Моисеевича Фейгина я был послан на конференцию, но без персонального приглашения. В 1993 г. на конференцию приезжал и К. М. Фейгин, однако за свой счет. Юрий Иосифович Сокол — руководитель конференции Холокоста в 1993 г. — обратил внимание на привезенную мной карту Смоленской области, где были отмечены места геноцида. Он продемонстрировал ее участникам конференции, попросил разрешение оставить себе, а позднее увез в США. Памятник жертвам тоталитарного режима четырех религий: католической, иудейской, православной и мусульманской
Памятник жертвам тоталитарного режима четырех религий: католической, иудейской, православной и мусульманской
На конференции 1994 г. Илья Альтман, исполнительный директор Холокоста, познакомил меня с видным польским деятелем, руководителем сейма — Адамом Михником. Разговор зашел о Катыни — Козьих Горах. Я рассказал Михнику, что мой отец — житель Смоленска, работавший жестянщиком на железнодорожной станции, сам того не понимая, спас от гибели нескольких польских еврейских офицеров, взяв их к себе на работу. Уже после войны некоторые из них приезжали к отцу в Смоленск, а один, Хиля Шустер, приезжал несколько раз и познакомился со мной. После войны он жил в Минске и работал в белорусском ансамбле песни и пляски. Я даже ездил к нему в Минск. Михник заверил меня, что проверит, могли ли быть польские офицеры еврейского происхождения. Илья Альтман, ранее работавший в архиве Российской Федерации, заметил ему, что видел в списках польских офицеров еврейские фамилии. О Катыни на конференции я беседовал и с другими еврейскими деятелями: Михаилом Гефтером, его сыном Валентином Михайловичем, Аллой Гербер. В поисках материалов я встретился со смоленскими краеведами. Выяснилось, что в годы войны в Смоленске строились надземные и подземные бункеры, для этого использовались евреи — узники Варшавского гетто. По данным Л. В. Котова, их было 12, а, возможно, и больше. Хотя Гитлер и приезжал в Смоленск два раза (в конце августа 1941 г. и 13 марта 1943 г.), ни в одном из бункеров он не останавливался. Обреченные строители жили в здании смоленской железнодорожной больницы и других местах. Здесь умирали те, кто не мог работать. В здании рядом размещалось гестапо. Об этом мне сообщил смоленский житель Самуил Аронович Райгородский, живущий теперь в этом доме. Теперь около железнодорожной больницы сооружен мемориальный комплекс погибшим узникам, однако нет указаний, что среди них были польские узники еврейского происхождения. По данным Л. В. Котова, только в Красном Бору и Гнездове бетонные бункеры сооружали более 2-х тысяч евреев, узников Варшавского гетто, и около 200 евреев из Смоленского гетто. Так как все узники были одеты в польскую военную форму, многие жители Смоленска считали, что по окончанию строительства бункеров в Козьих Горах были расстреляны не узники и охрана, а польские офицеры. Собранные материалы (мои, Л. В. Котова, Н. И. Илькевича и др.) я передал А. Н. Новикову, тогда первому заместителю губернатора области, перед его визитом в Польшу. Илья Альтман в апреле 1995 г. приезжал в Смоленск. А. Н. Новиков принял еврейскую делегацию, показал им проект памятника погибшим евреям в Козьих Горах. Проект был одобрен главным раввином России, Адольфом Шаевичем. Затем в кинотеатре «Октябрь» была открыта выставка Холокоста. Таким образом, и в Польше понимали, что в Козьих Горах наряду с людьми других национальностей и вероисповеданий покоятся тысячи евреев. Поэтому 8 апреля 1996 г. в Козьих Горах впервые в богослужении принимал участие польский раввин и звучал шафар.
Мемориал «Катынь» взывает к памяти
И. Цынман 28 июля 2000 года открылся Государственный мемориальный комплекс «Катынь», где захоронены советские и польские граждане — жертвы тоталитарного режима. Этому предшествовали большие проектные, строительные и художественные работы, в которых активное участие принимала польская сторона. Небольшой коллектив Катынского мемориала во главе с директором А. Ф. Волосенковым проводит работу по сохранению, оформлению и пополнению истории катынских событий. Недавно комплексу «Катынь» подарили вышедшую в Варшаве в этом году на польском языке книгу памяти «Катынь» с поименно установленным 4421 именем расстрелянных польских офицеров с их краткой биографией, где возможно и с фотоснимками. Хотя книга написана на польском языке, нетрудно увидеть среди расстрелянных имена сотен офицеров белорусского, украинского и польского происхождения, о чем говорят их имена, фамилии и данные биографий. Как явствует из этой книги, в Катыни были расстреляны и сотни польских офицеров еврейского происхождения. Об этом говорят их имена: Соломон, Борух, Израиль, Менахем, Исаак, Симон, Самуил, Натан, Симха, Мойзес, Эсхиэл, Хоня, Зелик, Нохем и многие другие. 17 сентября 1999 г. еврейский раввин из Польши читает молитву
17 сентября 1999 г. еврейский раввин из Польши читает молитву
 Президент Польши А. Квасневский — второй слева и губернатор Смоленской области А. Прохоров — первый справа у памятника расстрелянным в 1940 г. польским офицерам
Президент Польши А. Квасневский — второй слева и губернатор Смоленской области А. Прохоров — первый справа у памятника расстрелянным в 1940 г. польским офицерам
Но биографические данные о них очень скудны, и это вполне объяснимо: родственники этих польских офицеров-евреев тоже погибли только за то, что они евреи, в Освенциме, Майданеке, Треблинке, Собиборе (сколько таких лагерей смерти было на польской земле?). В оккупированной фашистами Польше евреям спасения не было. Об этом тоже надо помнить, посещая Катынский мемориал. К сожалению, до сих пор нет ясности, где захоронены две тысячи узников Варшавского гетто и 200 юношей Смоленского гетто, строивших гитлеровские бункеры под Смоленском. Их расстреляли после окончания строительства бункеров вместе с польской и чешской охраной. Как установлено, часть этих узников размещалась в железнодорожной больнице, где было гестапо и откуда их возили на стройки. У железнодорожной больницы установлен памятник, но не указано, что узниками были польские евреи. В долине смерти Катынского леса (2-я очередь Мемориала) находится свыше 300 групповых российских захоронений. Среди них, возможно, и захоронение польских евреев Варшавского гетто. Эти захоронения требуют обустройства и ухода. Ведь сейчас из-за самовольных раскопок по лесу можно встретить черепа и кости. Надо положить конец этому беспределу. Может быть, появится возможность наряду с польской создать и русскую книгу Памяти «Катынь». «Смоленские новости» 27 октября 2000 г.
Малая Катынская история
И. Цынман В Смоленском областном архиве мне предоставили копию акта от 8 октября 1943 г. об осмотре места фашистских злодеяний на бывшем хуторе Петра Тарабукина, подписанного капитаном Н. П. Ереминым и жителями поселка Катынь М. Е. Науменковой и А. М. Тарабукиной, двумя работницами местной аптеки. Здесь были убиты 4 еврея — зав. аптекой Мейерович и акушерка Могалиф и их малолетние внуки. Об этом же факте писал житель Катыни Валентин Григорьевич Юденков (газ. «Смоленские новости» от 27 июля 1993 г.). Он вспоминает, что в период войны ребенком слышал от старших, как осенью 1941 г. полицаи вели в ближайший лесок 4 евреев (две женщины, девочку и мальчика) и там их расстреляли, а потом присыпали их трупы землей в воронке от снаряда. 28 июля 1993 г. вместе с Юденковым и жителем Катыни Владимиром Тихоновичем Гончаровым мы посетили место расстрела: лопатой проверили грунт, но захоронения не обнаружили. Татьяна Федоровна Батова, секретарь Катынской сельской администрации, расспросила местную долгожительницу Дарью Ивановну Савченкову (Эрастиху) об этом случае. Она рассказала, что Марк Мейерович заведовал аптекой в Катыни. В начале войны он был мобилизован и, видимо, погиб. В поселке осталась его жена, она также работала в аптеке. Д. И. Савченкова подтвердила факт, отраженный в акте: осенью 1941 г. она видела, как полицаи провели через двор в огород четырех человек. Это были Мейерович, Могалиф и ее двое внуков. Уже выпало много снега. Мальчик 6–8 лет утопал в нем. Девочка 11–12 лет сопротивлялась, пыталась убежать. Ее били. Всех четверых расстреляли. Савченкова также сообщила, что мать этих детей также была расстреляна летом 1942 г. в Смоленске. Родных у них не осталось, поэтому о расстрелянных никто не спрашивал. Моя попытка установить на здании Катынской аптеки мемориальную доску, поставить памятник или памятный знак не увенчалась успехом.СМОЛЕНСК
Черный сорок второй
К. Фейгин Из справки о расстреле фашистами советских граждан-цыган в деревне Александровское Смоленского района 24 апреля 1942 года: «23 апреля 1942 года, перед вечером, из г. Смоленска в д. Александровское прибыли два немецких офицера и, явившись к старосте, предложили ему составить посемейный список жителей бывшего национального цыганского колхоза «Сталинская конституция» с разделением их на русских и цыган. 24 апреля, в 5 часов утра, прибывшим из Смоленска отрядом СС в количестве до 400 человек д. Александровское была оцеплена. Потом гитлеровцы обошли все дома и всех жителей деревни, как русских, так и цыган, выгнали полураздетыми из домов и погнали на площадь к озеру. Немецкий офицер, владевший русским языком, достал из кармана список жителей деревни и стал из толпы вызывать граждан, сортируя их на русских и цыган. После сортировки русские были отправлены домой, а цыгане оставлены под усиленной охраной. Потом офицер из оставшейся толпы выделил физически крепких мужчин, выдал им лопаты и в 400 метрах от деревни приказал вырыть две ямы. Кива Моисеевич Фейгин
Кива Моисеевич Фейгин
Когда мужчины были отправлены рыть ямы, туда же немцы погнали женщин, детей и стариков, избивая их прикладами, палками и плетками. Перед расстрелом осужденные были подвергнуты осмотру. Женщин и мужчин раздели и всех, кто имел смуглую кожу, расстреляли. Расстрел был осуществлен так: вначале расстреляли детей. Грудных детей живыми бросали в яму. Потом расстреляли женщин. Матери, не выдерживая этого ужаса, бросались в яму. Трупы расстрелянных закопали мужчины, потом они сами были расстреляны и немцами закопаны во вторую яму…» (ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 44, д. 1091. Л. 1–3 подлинник). Холм, расположенный на опушке Вязовеньковской рощи, до 1967 года лишь немногим смолянам напоминал о трагедии, произошедшей в июле 1942 года. Я часто задаю себе вопрос: зачем нужно было скрывать от людей правду о чудовищном по своей жестокости преступлении нацистов? В начале 60-х годов, понимая ответственность перед народом и его историей, старожилы Смоленска Фрейдин Е. И., Енин Е. Л., Сосины, Пазовские обратились к ряду граждан с просьбой о пожертвовании средств для установления у подножия холма памятного знака. Деньги были собраны при помощи горсовета, и в 1967 году установили памятный знак с надписью: «Жертвам фашизма. Здесь захоронены 3 тысячи советских граждан г. Смоленска, зверски замученных в гетто и расстрелянных в 1942 году фашистскими варварами». С тех пор прошло четверть века, ушли из жизни те благородные люди, а у руководства города так и не нашлось времени и желания содержать в порядке места массовой гибели людей. Свою деятельность в Смоленске немцы начали с приказов об организации еврейского гетто. Апогея трагедия смоленских евреев достигла 15 июля 1942 года. Изолировав евреев, нацисты и их пособники сразу дали им понять, что они обречены на уничтожение. Никто не имел права выходить за пределы гетто. Из его обитателей были созданы специальные отряды, предназначенные для выполнения самых грязных и тяжелых работ. Но адские условия не убили людей в обитателях гетто. Я уверен, что кто-то из обреченных писал стихи и песни о людях, оказавшихся в аду. Их имен мы не знаем, а песни гетто живут. В середине 1942 года, истощив силы заключенных непосильным трудом и голодом, завершив их ограбление, нацисты начали акцию по уничтожению людей. Невозможно спокойно читать этот составленный в 1943 году документ: Акт о массовых расстрелах гитлеровцами жителей г. Смоленска летом и осенью 1942 года.
«Мы, нижеподписавшиеся представители органов Советской власти, Керус К. А. и Гуменюк А. М. и колхозники колхоза им. Молотова, являющиеся жителями д. Могалинщина Корохоткинского сельского совета Смоленского района и области, Филиппов Михаил Филиппович, Чусунов Павел Петрович, Косенков Андрей Савельевич и Сергеенков Петр Емельянович, составили настоящий акт о том, что при осмотре на опушке Вязовеньковской рощи, ранее входившей в территорию дома отдыха летного состава Красной Армии, которая расположена в 1 км от д. Могалинщина на запад, параллельно дороге Танцова роща — совхоз «Пасово» (примерно 150 м от указанной дороги), обнаружены могилы с трупами расстрелянных немцами мирных граждан, проживавших в захваченном немцами г. Смоленске. Названные могильники являются: одна специально вырытая траншея 50 м длины, 2,5 м ширины, 2 м глубины, в которой захоронено свыше 3 тысяч человек мирных граждан г. Смоленска, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. Кроме того, в непосредственной близости к этому могильнику прилегают еще три могильника размером: длина 5 м, ширина 4 м и 2 м глубина, в каждом из которых также захоронено по 150–170 человек мирных граждан г. Смоленска, расстрелянных немцами в 1942 году. Таким образом, на этом месте всего захоронено жертв немецкого произвола свыше 3500 человек. Опросом местных жителей-очевидцев установлено, что в первой половине июля 1942 года в д. Могалинщина прибыла команда военнопленных и полицейских, всего свыше 20 человек, которая приступила к рытью указанной выше траншеи. 15 июля примерно в 2 часа ночи из Смоленска начали прибывать машины с еврейским населением города, которое на основании приказа немецкого командования было еще в начале года согнано на жительство в пос. Садки. Всю ночь и первую половину дня 15 июля 1942 года из Садков были слышны вопли и крики женщин, насильно загоняемых в машины. Из Садков евреи, в том числе женщины, дети и старики, свозились на грузовых машинах к вырытой траншее. Все машины, возившие еврейское население города, были черного цвета, с совершенно закрытым кузовом, в котором входная дверь находилась сзади и была закрыта на замок. Около 10 таких машин ходили до 4-х часов дня, а затем свезенные к траншее евреи были расстреляны и захоронены. В тот день одновременно было умерщвлено около двух тысяч человек еврейского населения города. Было заполнено примерно две трети могильника. Остальная часть была не зарыта и некоторое время пустовала. На дне незаполненной части траншеи стояла просочившаяся кровь расстрелянных, уровень которой доходил до колена. Около места расстрела валялись женские гребенки, разная одежда, заколки, мужская, женская, детская обувь и другие предметы, принадлежавшие расстрелянному еврейскому населению г. Смоленска. Позже, после расстрела еврейского населения, пустовавшая часть траншей была заполнена трупами граждан г. Смоленска, которых немецкие захватчики расстреливали на этом месте. Заполнив указанную траншею, немцы дополнительно вырыли еще три могильника на опушке Вязовеньковской рощи. Здесь также были захоронены мирные жители г. Смоленска, расстрелянные немцами в разное время в 1942 году. Кроме того, в 50 метрах на восток от этих могильников, в глубине Вязовеньковской рощи, обнаружена специально оборудованная между двух деревьев виселица, на перекладине которой сохранился остаток веревки. Около виселицы имеется могильник с неизвестными лицами, захороненными немцами. О чем и составлен настоящий акт. (Следуют подписи)». (ЦГАОР, ф. 7021, оп. 44, д. 1092 л. 4–5, подлинник).Замалчивание этой трагедии не делает нам чести. В Смоленске, других регионах страны и за рубежом проживают родственники погибших. Пренебрежение к памяти убитых вызывает нездоровую реакцию. Пусть собираются в Вязовеньковской роще смоляне — родные и близкие погибших — и приезжают люди из разных мест. Да услышат они на этих траурных сборах призыв пророка Исайи: «И перекуем мечи свои на орала и копья свои на серпы, да не поднимет народ на народ меча, не будет больше учиться убивать».
Вязовеньковский мемориал
И. Цынман С началом немецкой оккупации Смоленска местных жителей не пускали в Вязовеньковский лес. Он использовался фашистами как закрытая зона. Здесь хранились оружие, техника, были места расстрела и захоронения евреев, коммунистов и патриотов. Евреев на протяжении всех месяцев оккупации свозили в Вязовеньковский лес в душегубках, закрытых машинах, а иногда гнали на расстрел как скот. Поэтому в лесу было много захоронений. Месторасположения большинства не установлены, так как лес в то время усиленно охранялся и эсэсовцами, и полицаями. Предполагается, что лишь в одном захоронении, время расстрела — 15 июля 1942 г., находится около 3 тысяч тел евреев и русских. О том, сколько жертв лежит в других захоронениях, можно лишь догадываться. В советское время число жертв войны намеренно занижалось. Ефим Сосин — один из руководителей установки памятников смоленским евреям в Смоленске и Монастырщине
Ефим Сосин — один из руководителей установки памятников смоленским евреям в Смоленске и Монастырщине
 Инициаторы создания памятника в Вязовеньке
Инициаторы создания памятника в Вязовеньке
После войны возвратившиеся смоленские евреи под руководством Ефима Гилевича Сосина собирали деньги у жителей Смоленска, Москвы, райцентров для сооружения мемориала в Вязовеньке, на месте последнего известного захоронения. 29 июня 1968 года под руководством Е. Г. Сосина на его родине, в Монастырщине, был также поставлен памятник расстрелянным евреям. Однако деятельность Сосина и его соратников на этом не закончилась. На собранные ими средства был поставлен забор вокруг смоленского Гурьевского кладбища. Сейчас он обветшал. К сожалению, усилия Е. Г. Сосина не были оценены. Более того, не обошлось без неприятностей. Был написан донос, была прислана комиссия с ревизией. Проверяли доходные и расходные статьи по строительству, и лишь представив все документы, Сосин избежал репрессий. Стараниями учителя, участника Великой Отечественной войны Кивы Моисеевича Фейгина, умершего в марте 1995 г., а также при поддержке областного еврейского общественно-культурного центра, начиная с 1992 года ежегодно 15 июля — в день массового расстрела смоленских и попавших на Смоленщину волею судьбы евреев, у мемориала отмечается День памяти. «Рабочий путь», 12 июля 1995 г.
О событиях того времени и истории сооружения Вязовеньковского мемориала рассказала непосредственная участница его строительства — Ида Исаевна Черняк. Ида Исаевна, 1917 года рождения, смолянка, проживающая на улице Рыленкова, 7, вспоминает: — Когда началась война, мой муж Гусинский Семен Израилевич с 1939 года был в армии, мобилизовали и сестру Анну. Осталась я с родителями и годовалым сыном. Мне пришлось строить оборонительные сооружения, эвакуировать в Иркутск оборудование «Красного швейника». Погрузились мы в товарный вагон 14 июля 1941 года. Наши застрявшие перед Ярцевом эшелоны бомбили. Станцию захватил десант. На наших глазах гибли люди. Никогда не забуду, как у соседнего разбитого вагона мы увидели тяжело раненого молоденького русского лейтенанта, просящего пить, но ни у кого воды не было. А самолеты противника сбрасывали бомбы. Отчаяние, безотчетность в действиях, стремление уцелеть заставляли нас бежать. Нелегко досталась эвакуация. Приехали мы в Бугуруслан голые и босые и такими же вернулись 2 февраля 1944 года по вызову Смоленского горкома комсомола. Стала трудиться в управлении железной дороги, где проработала 16 лет, до его ликвидации. Смоленск был весь в руинах. Родные мои, которые оставались в оккупации, все погибли — никто не уцелел. Среди вернувшихся из эвакуации и демобилизованных евреев-воинов не было таких, у кого не погибли бы оставшиеся на оккупированной территории родные. У меня с мужем-инвалидом войны в Смоленске погибли бабушка Раша, брат отца Израиль с женой и дочкой. У мужа — родная сестра Рива с двумя сыновьями: Исаак — 12 лет и Изя — 10 лет. Много наших родных погибло в Стодолище и Починке. И так у каждого вернувшегося.
 Соломон Гусинский открывает памятник
Соломон Гусинский открывает памятник
 По дороге к памятнику в Вязовеньке
По дороге к памятнику в Вязовеньке
Местные жители рассказывали, что евреев, коммунистов и партизан убивали и закапывали живьем в разных местах: в Реадовке, в Вязовеньке и там, где полицаи их находили. Но 15 июля 1942 года в одни сутки в Вязовеньке убили или закопали живыми около трех тысяч евреев — узников Смоленского гетто вместе с коммунистами и партизанами. Возможно, эта цифра и больше.
 У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. — читают молитву
У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. — читают молитву
 У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. На переднем плане И. Цынман
У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. На переднем плане И. Цынман
Примерно в 1947–1948 годах уцелевшие люди из семей Сосиных, Цилевичей, Абарбанель, Дыменты, Дымшиц, Агранат, Цынман, Липа Лабковский, Моша Фрейдин, Черняков, Сарневичей, Пазовских, Гусинских, Шейниных, Левитиных, Ениных, Левантов и других начали с того, что, несмотря на запреты властей, купили домик-хибару и открыли там молельный дом. Здесь евреи молились за безвинно погибших. С этим нельзя было мириться. Первыми сходили туда Штейнгард, Сарневич, Шейнин и другие, у которых, пока они воевали против фашистов, в родном городе полностью погибли родители, жены, дети. Молельный дом вскоре закрыли, но зародилась идея поставить погибшим памятник. Эти же люди пришли ко мне на работу, чтобы я пошла с ними в горисполком просить средства. Там нам отказали, но посоветовали написать в центральные и областные газеты, чтобы нам помогли. Так появились наши публикации в «Известиях», «Правде» и «Рабочем пути». Я, как бухгалтер, открыла счет в банке и вела бухгалтерию. Многие из разных мест страны присылали деньги на наш счет. Шел сбор и в Смоленске по подписным листам. Я лично собирала деньги у людей разных национальностей, так что мемориал в Вязовеньке создан на общенародные деньги. Сооружало памятник похоронное бюро, и в 1966 году он был закончен, но не было благоустройства и ограды хотя бы части захоронения. И здесь нам помогли горсовет и Заднепровский райисполком. Они организовали подвоз земли, за их счет была сделана ограда, навешаны ворота, сделан въезд с дороги. Большой вклад внес Соломон Израилевич Гусинский, в те времена работавший в Красноармейском райисполкоме. Он же выступил открывателем памятника 21 мая 1967 года. Наряду со смолянами на открытие приехали из всей страны наши земляки, оставшиеся жить в местах эвакуации. «Рабочий путь» от 15 июля 1997 г.
Смоленск — 26 месяцев во власти неприятеля
Воспоминания проф. Б. Базилевича Вот что, рассказал о положении евреев в оккупированном Смоленске профессор Смоленского пединститута Борис Васильевич Базилевский, не успевший в 1941 году покинуть город: «…Еще ужаснее было поведение фашистов в отношении еврейского населения. Приблизительно 28 или 30 июля 1941 года фон Швец (военный комендант города Смоленска) отдал распоряжение о создании в Смоленске гетто, для которого были отведены, так называемые, Садки. Все русское население Садков должно было бросить свои дома и переселяться в другие части города, а на их месте должны были поселиться евреи. Это переселение немецкие жандармы осуществляли не просто со своей обычной грубостью, а с форменным издевательством. Людям не давали транспорта, и они должны были на ручных тележках перевозить тяжелую мебель. В связи со срочностью этого переселения (в начале был дан срок до 3 августа) на узком временном мосту сталкивались потоки переселенцев, двигавшихся из Садков и в Садки. Старостой (или старшиной) гетто комендатура назначила известного в Смоленске дантиста, доктора Пайнсона. В частых разговорах со мной доктор Пайнсон неоднократно жаловался на эту тяжелейшую обузу, которую он должен нести в интересах еврейского населения. Перспектив на благополучный исход не было. Несколько раз гетто облагалось «налогами». Население гетто должно было снабжать немцев теплой, в особенности меховой, одеждой, так как приближалась зима. По рассказам часто бывавшей у меня Берты Ильиничны Гейвашович, до войны много лет работавшей секретарем деканата физмата (Б. И. Гейвашович родилась 28 декабря 1903 г. в Смоленске; в 1934—35 гг. она работала в редакции «Большевистского молодняка», с 8 сентября 1935 года — в СГПИ), женщины очень правдивой и культурной, эти налоги «собирались» немецкими жандармами. Это сопровождалось неописуемой грубостью, а весьма часто и избиением стариков, женщин и детей. Немцы посадили горожан на голодный паек (неработающих не снабжали), а населению гетто было и вовсе отказано в каком-либо продовольственном снабжении, предоставив евреям изыскивать пропитание неведомыми путями. Пока население гетто направлялось на работы по уборке улиц города (чтобы удобно было ездить немецким автомобилям), работающие получали только скудный хлебный паек (кажется, 200 г). Когда же по распоряжению комендатуры евреев прикрепили к работе на железной дороге, положение с питанием работающих приняло какой-то хаотический характер. В одних местах (дальше от вокзала) иногда ничего не давали, а в других (ближе к вокзалу) давали суп, которого хватало не только работающему, но и его домашним. Однако чаще еды не хватало, скромная и деликатная Гейвашович, несмотря на все свое стеснение, вынуждена была брать тот хлеб, которым я и жена с полной искренностью могли с нею поделиться. В Смоленске евреи сначала работали в городе, а потом почти исключительно на вокзале. Отдельных специалистов — плотников, столяров, слесарей — я лично видел работающими в гестапо, когда в январе 1942 года часами дожидался в холодном коридоре допроса, сопровождавшегося криком, бранью и пинками (таким допросам я подвергался четыре раза). Глядя на этих евреев, я каждый раз со страхом думал об их участи (среди русских людей, не являвшихся немецкими сторонниками и прихвостнями, все больше шепотом говорилось о диких зверствах немецких разбойников над еврейским населением в разных городах). Б. И. Гейвашович каждый раз, когда навещала меня и жену, говорила, что у нее плохие предчувствия: ей придется погибнуть. Утешать ее было очень трудно, так как уверенность в окончательной победе над варварами не гарантировала, что эта победа придет раньше, чем проклятые насильники успеют совершить свое гнусное дело. Так, к несчастью, и случилось. Весной 1942 года в Смоленске разразилась ужасная драма, подобная той, о которых мы слышали из других городов. В один из ужасных дней (числа не помню) гетто было оцеплено жандармами; жителей выгоняли из домов. Эмигрант Гандзюк Григорий Яковлевич (первый заместитель Б. Г. Меньшагина), по слухам, о которых мне поведал доктор Никольский Георгий Владимирович (санитарный врач города Смоленска), стоял в гетто с револьвером в руке, очевидно, «для порядка». Я упоминаю об этом потому, что хочу отметить, кого тянули за собой звери-завоеватели. В этом кошмаре в числе 1200 человек погибла и Б. И. Гейвашович, вероятно, и доктор Пайнсон, и некоторые другие, кого я знал как честных и добросовестных работников (врачей, оптиков, ремесленников). О драме в гетто я узнал через два дня. Слухи о способе убийства были противоречивы. По одним, несчастных людей расстреляли, по другим, отравили газами, пущенными в закрытый автобус. Известие об этой драме, передававшееся шепотом, производило на русских людей гнетущее впечатление, и, несомненно, многие из тех, кто относился к немцам без должной злобы, сделались ярыми ненавистниками немецких палачей. Мне ни разу не пришлось слышать, чтобы об этом разбое говорили без возмущения и омерзения… …Вообще же, по сведениям, которые мне передавали доктор Никольский и бывший лаборант педагогического института Рыкалов Константин Николаевич (до войны был научным сотрудником СГПИ), в Смоленске постоянно происходили массовые убийства и расстрелы русских людей; говорили, что около Гедеоновки два раза в неделю расстреливали по 35–40 человек. г. Смоленск, 28.IX.43 г. (Архив Управления Федеральной Службы контрразведки РФ по Смоленской области, д. 9856-с л. д. 21–27 об.)Реликты войны
Л. Котов Недавно в парижском издательстве «Имка-Пресс» вышла в свет на русском языке книга с воспоминаниями Б. Г. Меньшагина — смоленского адвоката, ставшего в годы фашистской оккупации бургомистром Смоленска. Неведомыми путями она была распространена в нашей стране. Автор этой книги преподносится издателями как подвижник, который всю жизнь защищал людей и даже в годы войны спас от смерти три тысячи человек. Каков был на самом деле этот защитник, мы сможем узнать, проследив его дела хотя бы на примере трагической страницы из истории Смоленска, связанной с уничтожением гетто.Как было уничтожено Смоленское гетто
Гетто — слово итальянского происхождения, сейчас мало кому известное. Недавно в двух молодежных аудиториях (около 150 человек) на мой вопрос, знают ли слушатели значение этого слова, никто не смог даже приблизительно объяснить его значение. Забыто слово, ушло из памяти. — А может, это и к лучшему? Слова тоже стареют, ветшают, выходят из употребления, — заметил один из моих коллег-журналистов. — Да и зачем держать в памяти, реликты войны? Молодежи это совсем ни к чему, у нее своих проблем хватает. Реликты войны…, проблемы молодежи… И подумалось: пройдет еще совсем немного времени, и война станет совсем далеким и забытым прошлым… И может все начаться сначала. В суете жизни, подогреваемой спекуляциями на прошлом, начнут не в памяти, а наяву всплывать реликты войны… Впрочем, это уже происходит. В Прибалтике разрушают памятники советским воинам, сооружают мемориалы на могилах националистов-эсэсовцев… В Западной Украине устраивают парадные марши бывших бендеровцев, совсем недавно обагрявших руки кровью своего же народа… Что это — беспамятство или невежество? Что за этим стоит: возрождение национального самосознания или разрушение интернационального единения народов? Кому это выгодно? Почему люди, объявляющие себя демократами и борцами за народ, извращают его историю, спекулируют на ее «белых пятнах», кощунствуют над памятью своих же сородичей, павших в борьбе с фашизмом? Мы вернемся к этим вопросам, а пока поговорим о гетто. Понятие гетто пришло в наш XX век из далекого средневековья. Так в старину во многих городах Италии, Германии, Чехии называли кварталы или предместья, объявлявшиеся «чертой оседлости» для евреев-ремесленников, торговцев, врачевателей. Цивилизация похоронила гетто. Слово это забылось, стало реликтом. Возродили его нацисты, превратившие гетто в лагеря уничтожения евреев. Чудовищно, но факт: люди хладнокровно и расчетливо уничтожали себе подобных только за то, что они принадлежали к другой расе… На пороге второй мировой войны — 30 января 1939 года — Гитлер пророчески заявил, что новая война завершится «уничтожением еврейской расы в Европе». И это была не пустая фраза. В июле-августе 1941 года, сразу же после вторжения в СССР, ведомство Гиммлера подготовило ряд организационных, практических и материальных мероприятий по осуществлению поставленной цели — «окончательному решению еврейского вопроса». Понятие «окончательное решение», — нацистский синоним слова «уничтожение». Нацисты считали себя сверхкультурными людьми и не употребляли слов — расстрелять, казнить, сжечь, убить. В обиходе были синонимы этих понятий — устранить «нежелательных лиц», «подвергнуть спецобработке», «провести особую акцию» и т. д. Непосредственное осуществление этих преступных акций на оккупированных территориях было поручено ведомству Гиммлера, для чего были созданы специальные формирования из лиц, отобранных в войсках СС, гестапо, полиции безопасности и службы СД — айнзатц-группы, подразделявшиеся на айнзатцкоманды (оперативные команды) и зондеркоманды (особые команды). Те, в свою очередь, делились на еще более мелкие группы — тайлькоманды. В Смоленске разместился штаб айнзацгруппы «Б», приданной группе армий «Центр», и самостоятельно действовавший отряд полиции безопасности «Смоленск». Истребление евреев проводилось изуверскими методами: в ряде населенных пунктов их умерщвляли сразу же после захвата местности; там же, где вермахт нуждался в рабочей силе, евреев собирали в гетто и уничтожали постепенно — «посредством труда». Как это происходило, видно на примере трагической судьбы гетто в Смоленске. В вышеназванной книге воспоминаний бывшего адвоката и смоленского бургомистра Б. Г. Меньшагина я напрасно искал какие-либо сведения о гетто в Смоленске, хотя книга эта объемная, с приложениями, обильными комментариями и справочным аппаратом, как полагается в любом научном издании, претендующем на достоверность изложения материала. Меньшагин с завидной точностью в деталях — именах, датах, отдельных мелких фактах — описал довоенное время, когда он выступал защитником на судебных процессах в Смоленске, поведал о своем сидении во Владимирской тюрьме в послевоенное время, на трех страницах (из 132-х!) кое-что существенное, по мнению издателей, рассказал о «Катынской трагедии». А вот о том, как 15 июля 1942 года в Смоленске было уничтожено гетто, о своей «блистательной деятельности» на посту бургомистра города, а точнее Начальника города Смоленска (это далеко не совпадающие понятия) — ни слова. Лишь в комментариях одного из издателей Г. Суперфина приведены некоторые подробности на этот счет. Книга растиражирована газетой «Русская мысль», ходит по рукам, ею пользуются доверчивые историки и некоторые падкие до сенсаций журналисты. В ней, по мысли издателей, подается мировой общественности еще одно «свидетельство» о преступлении энкаведистов в 1940 году в «Катынском лесу» против польских офицеров, об их жестокости и антигуманности в обращении со своими жертвами, в данном случае — с почти «безвинным» адвокатом из Смоленска, который якобы всю жизнь защищал людей и даже спас от гибели тысячи человек (в приложении дано письмо Б. Г. Меньшагина, датированное 6 января 1980 г., где есть его самооценка прошедшей жизни: «…возвращение нескольким тысячам людей свободы, в т. ч. в годы войны более 3-м тысячам приносило мне радость»). Эти строки меньшагинского письма более чем сомнительны. Смолянам-старожилам, пережившим черные дни оккупации, своими глазами видевшим, как безжалостно убивали на улицах города тысячи военнопленных, как было уничтожено 1800 ни в чем не повинных стариков, детей и женщин, никогда не поверят в правдивость этих слов. Личность Меньшагина нам хорошо памятна. Мы еще вернемся к ней. Да, издатели потрудились на славу. Вытащили на свет божий воистину, реликты войны, казалось, давно всеми забытые и выброшенные на свалку истории имена Меньшагина, Умнова, Гандзюка, Пасхина (он же Максимов), Кончаловского (он же Сошальский). Список этот можно продолжить, вспомнить Алферчика, Околовича, Витушко, деникинского полковника Бердяева, Наронского, Швайко, Калюкевича, Миллера. Все они из одной обоймы — ближайшие помощники и единомышленники Меньшагина, лакейски пресмыкавшиеся перед оккупантами, вместе с ними творившие черное дело. Габриель Суперфин, как говорили когда-то наши предки «ничтоже сумняшеся», отмечает: «Сам Меньшагин неохотно говорил о службе немцам. Может быть, он избегал щепетильных тем, опасаясь нового срока, а может быть, боялся назвать кого-то, кому мог бы своими лишними словами повредить…» Ну, почему же повредить? Назвал бы одного-другого из тех трех тысяч, которых он спас в оккупированном гитлеровцами Смоленске… Нет, господин Суперфин, не в этом причина молчания Меньшагина о своей службе оккупантам. На следствии (судя по некоторым материалам смоленского архива) он был очень словоохотлив, назвал всех коллег по совместной службе, более того — помогал вспоминать другим грехи свои (Заречину, Пастернаку, например). Постараемся восполнить пробелы в опубликованных воспоминаниях Меньшагина, причем, не будем манипулировать мемуарами его соучастников, как это делают издатели книги. В этом нет нужды, так как «автор» книги оставил для истории обширное документальное наследие (о том, что оно сохранилось, Меньшагин не знал). Это его приказы по городскому Управлению, статьи в газету «Новый путь», доклады в полевую комендатуру и начальнику отдельного отряда полиции безопасности и СД обершарфюреру Масскову. Сохранились даже письма Меньшагина Адольфу Гитлеру и генералу-фельдмаршалу фон Боку (командующий группой армий «Центр»). Любопытные документы. Мы их еще процитируем. А пока вернемся к судьбе гетто. Гетто было создано в первые дни оккупации Смоленска. Занималась этим полевая комендатура, та самая, которая организовала и городское Управление во главе с Меньшагиным. Старожилы помнят: среди приказов немецкого военного командования, распоряжений местного коменданта, которыми были обклеены тогда стены многих угловых зданий, особенно четко выделялось набранное крупно жирным шрифтом объявление: евреям с вещами собраться в гетто… И далее указывался маршрут в Садки (северо-восточная окраина города в Заднепровье). Полевая жандармерия с помощью «местных активистов» из городского Управления (ими, кстати, верховодил Глеб Умнов, преподаватель техникума связи, которому по рекомендации Меньшагина было поручено формировать городскую Охрану — отдел горуправы — преобразованную позднее в городскую Стражу) — очистила от населения большой квартал (около 80 частных домов) возле Еврейского кладбища, обнесла его колючей проволокой. Уже 5 августа 1941 года, т. е. неделю спустя после прекращения боев за Смоленск, гетто начало функционировать. Об этом, между прочим, докладывал Меньшагин обершарфюреру Масскову, прибывшему в Смоленск со своим отрядом позднее. Гетто возглавил Совет во главе с известным в Смоленске зубным протезистом Пайнсоном, с которым Меньшагин «имел сношения» и решал вопросы, касающиеся евреев. Первоначальная численность гетто была незначительной. Шли туда добровольно лишь те, кто был из-за пожаров лишен крова и не имел надежных связей в городе. Городская охрана Глеба Умнова (сначала десятка полтора-два навербованных добровольцев, освободившихся из захваченной немцами тюрьмы) вместе с фельджандармерией вылавливала евреев и загоняла их в гетто. В архивных источниках относительно численности гетто в Смоленске мелькают цифры 2–2,5 тысячи человек. Несомненно, обитателей гетто было значительно больше. К 15 июля 1942 года в нем оставалось около двух тысяч человек. Но достоверно известно, что за минувшую зиму в гетто умерло несколько сотен человек. Умирали от болезней, холода и голода… О жизни и быте обитателей гетто известно многое. Жили скученно, по 6–5 семей в доме. Хлебный паек выдавался только работающим — 200 граммов в день. Кормились подаяниями, меняли у крестьян личные вещи, одежду на продукты питания. По городу евреи ходили с желтыми лоскутами, нашитыми на спину или рукав. Мне врезалась в память одна сцена. Неподалеку от мелькомбината, где жила наша семья, в бывшем клубе разместилась немецкая казарма. В помойке возле нее роются два подростка, — мальчик и девочка лет 14–15. Помойка богатая, ведь в казарме живут солдаты, занятые на хлебозаводе… Подростки увлеклись и не заметили, как к ним почти вплотную подошел немец с помойным ведром в руках. Остановился, вынул из ведра куски хлеба и бросил под ноги, улыбаясь, повторял: «Брот, брот, гут брот…» (Хлеб, хлеб, хороший хлеб…). Паренек приблизился и стал собирать хлеб в холщовую сумку, висевшую на шее. Солдат тут же опорожнил ему на голову помойное ведро и ударил несчастного носком кованого сапога. «Юде, нике брот!», — с гоготом кричал он, радуясь своей изуверской выходке. Тут надо сказать, что разные были немцы. Встречались и доброжелательные, сочувственно относившиеся к населению и к евреям тоже, помогавшие в меру своих возможностей. Но были и такие, как этот садист, унизивший человеческое достоинство и избивший подростка лишь за то, что он еврей. Эта сцена тоже реликт войны. Но разве можно ее забыть, выбросить из памяти? Поначалу Управление города взяло на учет работоспособных евреев. Через биржу труда мастеровые, ремесленники стали получать работу (даже комендатура выдала несколько патентов евреям — портным и сапожникам). Но в начале ноября 1941 года Меньшагин получил, для сведения и руководства, директиву из полевой комендатуры № 813, озаглавленную: «Касается евреев». Советник Военного Управления Феллензик пишет, адресуясь к руководству местных комендатур округа: «Согласно распоряжению Хозяйственной инспекции за № 50023/41 от 22.10.41 г. должно быть немедленно проведено исключение евреев из списков безработных… Предписать воинским частям немедленно уволить работающих у них евреев… После исключения из списков у евреев должны быть отняты все инструменты и взяты на сохранение Управлением начальника города. Бургомистр должен согласовать это с Биржей Труда, отдать конфискованные инструменты ремесленникам арийцам… Найденное у евреев сырье, которое может быть обработано, конфискуется и сохраняется. Все евреи должны быть в гетто». Этот любопытный документ хранится в рабочих бумагах Меньшагина. На нем его собственноручная помета: «ТО. Доложить о патентах, выданных евреям. 9.XI.41 г. Б. М-н». Входящий регистрационный № 61. 10/XI.41 г. Мог ли Меньшагин рассказать Г. Суперфину, как реализовывалась эта директива? Конфискацию инструментов и сырья в гетто проводила полевая жандармерия под контролем лейтенанта Опеца с участием городской Стражи, возглавляемой Глебом Умновым. Операция прошла успешно. Конфискованное имущество было доставлено на склад городского Управления № 1. В директиве есть еще одно важное указание: отныне евреям запрещается «менять местожительство или квартиры, выходить куда-либо за границы своей общины. Нарушения будут сурово наказаны. В дальнейшем евреи должны быть собраны в отряды для принудительных работ и должны получать наиболее трудные работы». Из докладов Меньшагина в комендатуру и полицию безопасности видно, что отныне в отдел очистки города (руководил Г. Я. Околович — лидер энтеэсовцев) ежедневно прибывала рабочая колонна из гетто, численностью в 1000 человек, использовавшаяся на наиболее тяжелых и грязных работах. Чистили улицы, выгребные ямы, разбирали разрушенные кирпичные здания. В Смоленске живет чудом уцелевший узник гетто Владимир Иосифович Хизвер. Беседуем с ним: «Мне было тогда 14 лет. Мал ростом и худ я от природы, а в гетто совсем отощал, едва ноги переставлял. Но меня числили взрослым, посылали на работы. С вечера приходил человек из Совета гетто и указывал, где и в какое время рано утром собираться, куда погонят на работу. Часто гоняли нас на вокзал мыть и чистить вагоны после выгрузки раненых, прибывавших с фронта, таскали шпалы, разгребали балласт. За малейшую провинность — удары по спине, зуботычины. Больно вспоминать…». Гетто немцы «чистили» не раз и не два. За малейшую провинность — штраф. А сколько костюмов, модной женской одежды пошили портные гетто по заказам комендатуры и Меньшагина? Сколько сапог и туфель стачали искусные сапожники? Разве об этом Меньшагин мог рассказывать Г. Суперфину? «Меньшагин в высшей степени соответствовал своему назначению: он был адвокатом, защитником. И первый естественный импульс в любых условиях и обстоятельствах для него заключался в том, что надо защищать людей. Он старался выполнить эту задачу в период массовых репрессий тридцатых годов, он принял на себя эту миссию, когда пришли немцы». Это пишет Габриэль Суперфин (московские журналисты мне сообщили: Габриэль Суперфин и Наталья Горбаневская — борцы за свободу советских евреев!), автор комментариев, знавший Меньшагина лично, и, видимо, не раз беседовавший с ним. Господин Суперфин, Вас обманул Меньшагин. Оценка, которую Вы дали его личности, цинична и кощунственна по отношению к памяти тысяч советских людей, в том числе и к узникам Смоленского гетто. В архиве сохранился документ — доклад Меньшагина все тому же начальнику Отдельного отряда «Смоленск» обершарфюреру СС Масскову, направленный накануне уничтожения гетто. Процитируем этот весьма любопытный документ: «В гетто по распоряжению комендатуры изъято 60 комплектов постельных принадлежностей, швейных машинок — 3. За несвоевременную сдачу постельных принадлежностей еврейский Совет оштрафован на 5000 рублей». Контрибуция! Разве адвокат Меньшагин не знал, что контрибуции запрещены международным правом? Судьба узников гетто уже была решена, назначен день массовой экзекуции. А Меньшагин принимает решение взыскать со строптивых контрибуцию! Как это можно назвать, если не злодейством! В ночь с 14 на 15 июля 1942 года отряд жандармерии с участием городской Стражи, возглавляемой первым заместителем начальника города Г. С. Гандзюком и начальником политического отдела Стражи Н. Ф. Алферчиком, окружил гетто. Владимир Иосифович Хизвер рассказывает: «Началось ночью, где-то в первом часу, когда все мы после изнурительного рабочего дня спали. Вначале появились автомашины и рассредоточились по проулкам и между домами. Никто этому не придал особого значения, не обратил внимания. Уснули. Вдруг меня тормошит мама: «Володя, Володя, проснись…» Открываю глаза, встаю… С улицы доносится шум, слышатся вопли женщин, крики детей. Что происходит? «Нас выселяют», — сказал кто-то. — Куда, почему ночью?.. Часа в три ночи ворвались в наш дом: «Выходите! Быстро выходите! С собой взять только одежду…». Вижу немецкого жандарма с бляхой на груди и полицейских с карабинами. Толкают в спину прикладами, гонят на улицу. Гетто очищали поэтапно. Очистят столько-то домов, сгонят к перекрестку улиц на площадь, освещенную фарами автомашин, построят. Отделяют крепких мужчин и уводят. Остальных грузят в автомашины, увозят. Были три или четыре машины — «душегубки»… Мы с мамой стояли у самого откоса. Внизу по склону холма было большое картофельное поле, спускавшееся к нефтебазе. Мы видели, как сажали в «душегубки» женщин и детей. Вот скоро и наш наступит черед… Какое-то оцепенение, безразличие сковало душу. Мама тихо плачет… Вдруг она говорит мне: «Володенька, сынок, беги, беги, родной…» Я оглянулся, поблизости нет охраны, и рванулся к картофельному полю. Метров восемь, может, больше, пробежал и упал в борозду, прополз чуть и замер, уткнувшись в землю. Так я пролежал до утра и почти весь день, пока все стихло. Ничего больше не видел, только слышал крики, шум да гул моторов нагруженных людьми машин, уходивших из гетто». Дора Ерухова успела закончить 7-ю среднюю школу, получить аттестат. Ее мучили, а затем расстреляли в Вязовеньке. Ее старший брат-красноармеец погиб, организуя Соловьеву переправу. Уцелел лишь отец, воевавший от начала до конца войны, следы которого потерялись.
Дора Ерухова успела закончить 7-ю среднюю школу, получить аттестат. Ее мучили, а затем расстреляли в Вязовеньке. Ее старший брат-красноармеец погиб, организуя Соловьеву переправу. Уцелел лишь отец, воевавший от начала до конца войны, следы которого потерялись.
Володе повезло. Он благополучно добрался до Днепра, прошел берегом до переправы, оказался на левобережье, в южной части города. Куда идти? Дом возле Сенной площади, где жили до войны, сгорел, соседи разбрелись. Оказавшись возле Чертова рва за улицей Запольной, увидел домик. Вспомнил, что тут он бывал со своим отчимом до войны, здесь жил его товарищ по работе. Постучался. Семья столяра Гредюшко приняла мальчика. Накормили, спрятали. Володе повезло и дальше. Через несколько дней неожиданно сыскался отчим, бежавший из плена. Они вместе покинули Смоленск, ушли в Монастырщинский район. Там случайно встретились с партизанской группой Грицкевича. Началась другая жизнь — Володя стал партизаном 2-й Клетневской партизанской бригады. После освобождения — суворовское училище, однако это уже другой рассказ…
 Две подруги — две судьбы, сфотографированные в 1935 году. Повыше — Аня Муравич. В 21 год в Вязовеньке ее лишили жизни. Вместе с нею расстреляли младшую сестру и родителей. Охранявший гетто полицай Троцюк, брат ее подруги, спасти ее и сестру не сумел. Из всей ее семьи уцелел один брат, воевавший всю войну, получивший тяжелые ранения. Рядом — Нина Рубинова. Пережив ленинградскую блокаду, она дожила в Смоленске до правнучки.
Две подруги — две судьбы, сфотографированные в 1935 году. Повыше — Аня Муравич. В 21 год в Вязовеньке ее лишили жизни. Вместе с нею расстреляли младшую сестру и родителей. Охранявший гетто полицай Троцюк, брат ее подруги, спасти ее и сестру не сумел. Из всей ее семьи уцелел один брат, воевавший всю войну, получивший тяжелые ранения. Рядом — Нина Рубинова. Пережив ленинградскую блокаду, она дожила в Смоленске до правнучки.
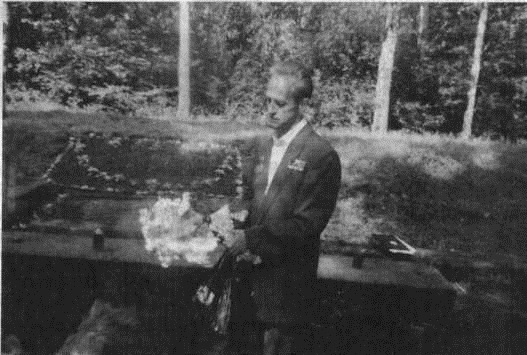 «Володя! Ты маленький, юркий. Беги, спасайся», — просила его мать. Володя прыгнул, как кошка, в картофельную ботву. Он единственный, кто спасся в дни расстрела. На снимке: Владимир Иосифович Хизвер у захоронения в Вязовеньке — очередное свидание с матерью.
«Володя! Ты маленький, юркий. Беги, спасайся», — просила его мать. Володя прыгнул, как кошка, в картофельную ботву. Он единственный, кто спасся в дни расстрела. На снимке: Владимир Иосифович Хизвер у захоронения в Вязовеньке — очередное свидание с матерью.
Говорят, спаслись и другие узники гетто. Возможно. Прочитают эту статью — откликнутся. И мы сможем узнать новые детали, новые подробности о том, как погибло гетто. Меньшагин не пожелал рассказать о том, как погибло гетто, а ведь он знал куда больше Володи Хизвера. Узников гетто вывозили в район деревни Могалинщина Корохоткинского сельсовета, где на опушке Вязовеньковской рощи заранее была приготовлена глубокая и длинная траншея. «Детей бросали в яму живыми, туда же сваливали трупы, доставленные машинами-душегубками, и трупы расстрелянных», — говорится в акте Чрезвычайной государственной комиссии. Есть и другой документ-признание свидетеля и участника расправы над людьми бывшего агента отдела Алферчика — Владимира Фридберга, скрывавшегося под фамилией Николаев. В мае 1945 года он рассказал Военному Трибуналу: «Я лично на машине выехал с 30 евреями по Московскому шоссе на 10–15 километров и 3 километра в сторону, в лес, где уже была приготовлена яма. Всех 30 евреев выстроили лицом к яме, после чего немецкий офицер из жандармерии построил сзади в ряд полицейских, где был и я. Кроме полицейских, были построены и немецкие солдаты на расстоянии 60 шагов. По команде дали залп по евреям… Всех расстреляли одним залпом». Он назвал соучастников преступления. Среди них были Алферчик, Швайко, Миллер, Ерофеев, Калюкевич и другие. Владимир Фридберг, еврей по национальности, служил в полиции под фамилией Николаев. Дело тут не в национальности, выродки есть у каждого народа. Меньшагин — русский, Алферчик — белорус, Швайко — украинец, Калюкевич — поляк, Миллер — немец и т. д. Дело в нравственной, моральной чистоте души человека, в его идейных убеждениях. Фридберг получил заслуженное возмездие — после войны был арестован и по приговору трибунала расстрелян как военный преступник. Швайко укрылся в Канаде, Миллер в Бразилии, Алферчик в Австралии, Ерофеев в США, Калюкевич в Аргентине… Но где бы они ни прятались, им не уйти от всенародного презрения, от ответственности за содеянные преступления. И как бы ни лакировали биографию Меньшагина, ничего не выйдет: в народе справедливо говорят, что «черного кобеля не отмоешь добела».
Показания свидетеля
Записал И. Цынман Игорь Петрович Тобольчик, житель города Смоленска, 8 августа 1994 г. рассказывал мне следующее: «Родился я в Смоленске в 1928 г. в Шоссейном переулке района Садки, где прожил всю жизнь. В первые дни войны бомбили Смоленск. В частности, метили в нефтебазу, которая располагалась в Садках. Однако все время попадали в откосы. Мы, подростки, бегали смотреть воронки от авиационных бомб. Мать решила отвести нас к знакомым в Валутино, расположенное за Колодней. Однако бомбили и там. Мы пошли дальше, в деревню Медино, а затем отправились в Кардымово. Жители и солдаты из Смоленска колоннами на лошадях, машинах, пешком двигались по направлению к Соловьевой переправе. 10 июля 1942 г. мы вернулись в Медино, остановились у знакомых, где жило уже четыре семьи. 25 июля встретили немцев, после этого пришлось вернуться в Садки. Есть было нечего. Фашисты собрали взрослых и подростков, отправили на ремонтные работы: приказали восстанавливать дороги, засыпать воронки, позже, зимой, очищать от снега. В Садках создали гетто. Местных жителей выселили, они уходили кто куда мог. Граница гетто — школа № 24. Наш дом не попал в территорию гетто. Никому не разрешалось переходить через железную дорогу, за которой был Днепр. Проход был через переезд у нефтебазы и Крестовоздвиженского моста. Мы жили рядом с переездом и оказались свидетелями жизни евреев в гетто. Еврейскую молодежь собирали отдельно. В основном она работала на железной дороге, за это кормили. В Садках не было воды, и евреи вынуждены были ходить за ней на Днепр, через переезд. По сути дела, люди год жили без воды. Часто полицаи и немецкие солдаты издевались: забирали принесенную воду, часто тут же выливали. Евреи снова шли за водой. Евреев было много, они заняли более 40 домов, в каждом из которых жило до десяти семей. Последние дни существования гетто приходились на середину лета. Еще 14 июля 1942 года все было нормально, люди, как обычно, пошли на работу. На следующий день гетто было оцеплено полицаями с собаками. Никого никуда не пускали. Были слышны крики, плач. Нас, подростков, погнали на работу. Поползли слухи, что евреи эвакуированы неизвестно куда. Когда мы возвращалась домой, то видели зеленые крытые фургоны, возможно, это были душегубки. Позже рассказывали, что в этих закрытых машинах возили евреев. Им объявили, что их перевозят в другой лагерь. Было приказано собраться на средней улице, взять только ценные вещи. Военнопленные, работающие на нефтебазе, говорили, евреев возили вечером и ночью 14 июля и весь день 15. Только через несколько дней жители деревни Могалинщина рассказывали, что в Вязовеньковском лесу были слышны крики: там расстреливали евреев. Ходить в лес запрещалось. Однако позже люди ходили туда и видели провальные ямы. В Вязовеньковском лесу находились склады боеприпасов. Работали там только пленные, которые позже также были расстреляны. Сейчас им в Пасове (возле деревни Щеткино) поставлен памятник. Управление полиции русским людям выдавало аусвайсы, с ними мы ходили на Рязанку разгружать или воровать соль. Из Смоленска в Германию вывозили молодых людей 1925–1926 года рождения. Полицаи окружали базар, проверяли аусвайсы, решали, кого отправить в Германию, а кого оставить для работы в Смоленске. Каждый день жизни был под угрозой. Видеть трупы людей стало обычным делом. Зимой 1941–1942 гг. из-за гололедицы машины не могли подняться на Таборную гору. Дети должны были посыпать дорогу песком, который лежал на обочине замерзшими кучами. Взять его было трудно. Полицай лопатой бил нас за нерасторопность. Немец, машина которого буксовала, выскочил из машины, вырвал лопату из рук полицая и стал его бить. Потом немец подозвал меня и других ребят и стал показывать фотографии своих детей. Затем вытащил две буханки хлеба и поделил между нами. Нас было 6 или 7 человек. Это был не эсэсовец, а рядовой солдат. Больше всех зверствовали финны, их даже узнавали по зверствам. На кладбище, расположенном на улице Нормандия-Неман, похоронены люди всех национальностей. В этом месте в период оккупации находился лагерь военнопленных, среди них были татары, евреи. Потом в нем оказались те, кто воевал на стороне немцев. Работая водителем в 1945 г., я узнал, что кроме немцев здесь были итальянцы, французы, испанцы, финны. Каждый говорил на родном языке. Умерших увозили хоронить в Реадовку.»ПРАВЕДНИКИ МИРА
Евреям спасения не было
Записал И. Цынман В июле 1996 года позвонила мне незнакомая женщина. Назвалась Третьяковой Татьяной Ефимовной* и попросила о встрече. Речь пошла о событиях более чем полувековой давности — спасении от неминуемого убийства ее еврейской подруги. Татьяна Ефимовна рассказывала: «Родилась я в Смоленске в 1924 году, в коммунальной квартире по Мало-Штабному переулку, где мы имели комнату около 15 кв. м. Отец мой был сапожником, а мать работала на молочном заводе на Рачевке. Позднее у меня появилась младшая сестра — Валя. Место, где мы жили, было бойкое — рядом штаб Белорусского Военного Округа. Училась я в маленькой 4-й средней школе, расположенной рядом с банком. Позади школы находилась больница Черномордика с большим садом. На том месте сейчас жилой массив под названием «Дом партактива».* Позднее ей и ее матери присвоено звание «Праведница мира». 41
В школе, в моем классе, около половины учащихся были евреи. Фотография класса в войну сгорела. Жили мы в классе одной семьей и о национальностях даже понятия не имели. Были октябрятами, пионерами. Комсомольцами тогда стать не успели, а после войны находившиеся в оккупации люди, перенесшие неслыханные невзгоды, едва уцелевшие, считались людьми даже не второго, а третьего сорта. В комсомол и в партию нас не принимали. Одной из моих близких школьных подруг была Женя Громыко, о ней дальше и пойдет речь. Я часто бывала дома у моей подруги. Жила она около кинотеатра «Пятнадцатый» — бывшей хоральной синагоги, в хорошей (по тем временам) квартире. Отец у Жени был военным, по национальности — белорус. С матерью, еврейкой, Серафимой Осиповной, я была очень близка. Когда я у них бывала, меня сажали за стол, часто угощали чем-нибудь вкусненьким. Знакомы между собой были и наши матери. В 1938 году, когда мы учились в 5-м классе, Женя Громыко пропала, и мы о ней ничего не знали, и даже учителя ее не вспоминали. В то время в политику не вникали, на политические темы нельзя было вести разговоры. Если и находились смельчаки, не то чтобы критиковавшие строй, а так, что-то сказавшие, то их по доносу ждал ГУЛАГ. Когда Женя через год вернулась в класс, выяснилось, что ее отец, кажется, по должности интендант, оказался среди врагов народа и был репрессирован, осужден и молодым умер в лагере в 1943 году. После смерти Сталина он был реабилитирован. После ареста отца Жени взялись за ее мать. Серафима Иосифовна год провела под следствием в застенках НКВД. Там ее пытали, мучили, водили на бесконечные допросы, но через год ей удалось освободиться. Женя этот год провела в приюте для детей «врагов народа» где-то на Киевщине, за колючей проволокой, откуда никого и никуда не выпускали. Учителя и ученики встретили Женю очень дружелюбно. Симпатии к ней заметно возросли. Училась Женя хорошо. Накануне войны, в 1940 году, мои родители поменяли жилье и переехали в Заднепровье на Ново-Московскую улицу, расположенную рядом с Рязанской улицей, где шла разгрузка и погрузка железнодорожных вагонов. За железной дорогой виднелись Садки. Здесь комната была побольше, а на кухне, кроме нас, жила одна старушка — бывшая купчиха. Я продолжала ходить в ту же школу, хотя она и была далеко. Во время войны купчиха ушла от нас в свой ранее конфискованный дом. У нас появились новые соседи. Когда началась война, моего отца — белобилетника, мобилизовали. В Куйбышеве, на Безымянке, он шил военным обувь и вскоре там же умер. В 1942 году я случайно встретила Женю недалеко от дома, где жила. Мы были худыми, изможденными. Чем питались? В первое время еще добывали картошку, зелень всякую, на Рязанке вдоль путей собирали то, что утекало из вагонов — какая крупичка, мучичка, подбирали уголек на растопку. Попадались дровишки, сучки… С солью было легче. По ту сторону дороги, на подъеме в Садки у Крестовоздвиженской церкви, было полно красной соли. Скорее всего, это были минеральные удобрения. Однако ее употребляли в пищу, а в деревнях меняли на съестное, и от нее никто не умирал. Позднее соль стали вывозить, но многие запаслись. Я пригласила Женю к себе, она у меня переночевала, хотя ее мать в гетто об этом не знала. К пропаже и гибели людей в то время все привыкли. Никто никого не ждал. Прямо на улице или на базаре случайных людей забирали в заложники. Полицаи и немцы хватали всех, кто попадался. Девушек и девочек насиловали и убивали. Люди уходили из дома и не возвращались. На следующий день я пошла вместе с Женей в Садки, в гетто. Шли мы не через ворота, а снизу, через нефтебазу, пролезая через колючую проволоку. С большой высоты видели на нефтебазе военнопленных. Там был большой лагерь. В гетто евреи все время были в шоковом состоянии. Каждый час можно было ждать смерть. Домишки в Садках, где жили евреи, были маленькими и плотно набиты людьми. Ночью на полу не хватало места, чтобы спать. Если прежние жильцы оставляли кровати, то на них спали по двое или трое и столько же под кроватью. Вечером света не было. Многие спали сидя, не раздеваясь. Бывало старухи или старики дежурили на улице, чтобы полицаи не застали спящих врасплох. Среди ночи могли ворваться полицаи — проверить, все ли на месте. Полицаям ничего не составляло выбрать спящих красивых девушек и девочек, увести их, чтобы изнасиловать. После этого возвращались не все. Да и днем было неспокойно. Мать Жени предупреждала нас, что если на форточке висит черная тряпочка, то нельзя близко подходить к дому и надо поскорее скрыться — уйти из гетто. Это значит, что в хибаре, где они жили, или рядом — полицаи. Если тряпочка белая, то можно зайти в дом. Перед массовым расстрелом евреев целую неделю висела на форточке черная тряпочка — ее не снимали. Ни мне, ни Жене перед гибелью гетто не удалось повидаться с Жениной мамой. Чаще к Жениной матери носила съестное я. Ко мне труднее было придраться, так как я русская и, вроде, пришла к евреям, чтобы что-либо купить из тряпок или обменять. Я полицаям и не попадалась. Женя в это время ждала меня в кустах около нефтебазы. Каждый поход был, связан с большим риском. По утрам полицаи выстраивали на площади тех евреев, кто еще мог двигаться. Полицаи с охраной и собаками выгоняли людей на самые грязные работы. На железной дороге дочиста мыли вагоны, которые были залиты кровью раненых, чистили вагоны от грязи, разгружали или загружали составы. Чистили уборные. Для этой работы не всегда выдавали инструмент. А просить его было опасно. В снежную зиму очищали от снега дороги и аэродром. Делали все, что прикажут. Нерадивых или больных ждал расстрел, часто немедленный. Формулировка приговора: «За неподчинение» — в назидание работающим. Расстреливали тут же, у всех на глазах, заставляя работающих, обреченных оттаскивать трупы, делать ямки и закапывать. Из дома, в котором мы жили, было видно, что евреев гоняли на работу колоннами по 50, 100 и более человек. Охрана состояла из десятка вооруженных полицаев. Иногда с ними были один-два немца. Были и собаки. Из гетто просто так, с целью вымогательства ценностей или за всякие нарушения режима, со второй половины 1941 года постоянно брали заложников, которые большей частью не возвращались. Где их расстреливали до массового уничтожения гетто, я не знаю. В гетто попала Женя, ее мать и бабушка. Бабушка Жени до войны жила в Смоленске, отдельно от своей дочери. Ей не нравился ее брак с белорусом. Бабушка была старенькая. Она умерла от голода. Если попадалась какая-нибудь пища, она говорила своей дочери: «Ты съешь, а я не буду». Не хватало не только пищи, но и чистой воды. Пили всякую грязь. В гетто свирепствовали страшные болезни — дизентерия, тиф, туберкулез. Ежедневно умирали люди. Полицаи заставляли убирать и закапывать трупы. Умерших хоронили не на кладбище, хотя оно находилось недалеко, а в гетто, где придется. Хоронили голыми. Одежда умерших могла еще пригодиться. Те, кто не мог передвигаться и не ходил на работу, голодали. Иногда спасали дети. Они знали все лазейки из гетто и, рискуя, выходили в город, на базар, на Рязанку или в поле, чтобы раздобыть съестное. Тем, кто работал, давали что-нибудь съестное: баланду из брюквы или свеклы, по кусочку хлеба из муки, отрубей и опилок. Так евреи жили и погибали в гетто почти год — до массового расстрела 15 июля 1942 года. К нам Женя попала в июне 1942 года. Спали мы с ней на одной кровати. Моя мать старалась, чтобы о ее трех (включая Женю) дочерях знали поменьше. И когда мы получали от полицаев наряды на работу, она ходила сама. А мы старались добыть что-нибудь из еды: собирали лебеду, щавель. Крапива была деликатесом, подорожник заменял чай. Картофельных очисток не было. Их съедали. Собирали все, что находили на берегу Днепра. Если мы видели взрослых, то убегали и прятались. Так, попрощавшись навсегда со своей мамой в гетто, Женя осталась у нас, а в ночь на 15 июля всех обитателей гетто расстреляли, как выяснилось потом, в Вязовеньковском лесу. Об этом сообщили жители деревни Могалинщина. В эту ночь Танина мама не спала. Весь вечер накануне и в ночь на 15-е июля по шоссе двигались машины, напоминавшие рефрижераторы, и женщина была твердо уверена, что немцы начали новое наступление на Москву. До этого на эти рефрижераторы (душегубки) она не обращала внимания. После расстрела евреев, осенью 1942 года, полицаи приказали нам покинуть наше жилье возле Рязанки и указали хибару в Садках, освобожденную от евреев, где мы должны были жить. И мы туда перебрались, непослушание грозило расстрелом. Вскоре кто-то донес, что у моей матери не три дочери, а две. Когда в январе 1943 года мать с младшей сестрой пошла в деревню выменивать тряпье на картошку, в 12 часов ночи в хибару, которая не запиралась, ворвались двое полицаев и спросили: «Кто Женя?». Женя назвалась. Ей приказали быстро собраться, теплее одеться и взять с собой хлеба, которого у нас не было. Своего пальто у Жени не было, а зима была суровая. Я нашла Жене старое пальто, дала ей старые валенки. Нам разрешили попрощаться, мы поцеловались, и полицаи увели Женю. Мать через два дня вернулась из деревни, но ходить узнавать о Жене было опасно. За укрывательство еврейки грозил расстрел. Мы спали в одежде, были наготове, боялись малейшего шороха. Но дней десять нас никто не трогал. Женя вскоре вернулась. Она рассказала: в гестапо ее били, мучили, не давали еды и питья. Через каждый час водили на допросы. Добивались признания, что она еврейка. Спрашивали, как получилось, что евреев вывезли, а она осталась. Отпираться Жене было бесполезно. Метрики и документов у нее не было. Она утверждала, что отец у нее белорус. А мать еврейка, но отец ее был русским. Видимо, немцы пожалели ее, а эксперты вычислили степень еврейства и установили 5 процентов. Такой процент еврейства у немцев в расчет не принимался. Женю не расстреляли и отпустили. Будь у Жени отец не белорус, расстреляли бы и ее, и нас. Все бы пошли под расстрел, и вопросов не было бы. После возвращения из гестапо Женя пожила у нас недолго. Немцев стали гнать на Запад. Полицаи и немцы к нам охладели и вообще присмирели. Наши войска приближались к Вязьме. Весной 1943 года к нам пришла повестка, чтобы послать одну из дочерей в Германию. Женя тут же обняла маму и сказала: «Не плачьте, — поеду я. Мне все равно». Опять мать стала собирать Женю в дорогу. Была весна, тепло. Женя одела школьный казакин (полужакет), драную обувь, мама дала ей мешочек. В нем было полбуханки хлеба, немного красной соли, платьишко и тряпочка вместо полотенца. Провожать Женю мать меня не пустила, так как я могла на месте посадки в вагоны «загреметь» вместе с ней. Там не разбирались. Провожала Женю моя мама. Женю посадили в товарный вагон. Очевидцы, позднее, говорили, что на соседней сортировочной станции подцепляли другие товарные вагоны, набитые людьми — детьми и подростками. И о Жене мы больше ничего не знали.
 Праведница мира Смоленщины Татьяна Ефимовна Третьякова при вручении ей почетного звания.
Праведница мира Смоленщины Татьяна Ефимовна Третьякова при вручении ей почетного звания.
Кончилась война. В сентябре 1945 года Женя вернулась в Смоленск к своей второй маме и сестренкам. Она уже была замужем. В Петропавловской церкви органы проверили ее документы. Ее не преследовали. Муж ее, находясь в Горьком, не сумел к ней приехать, так как его посчитали военнопленным (он был на два года старше Жени). Побыв год в Смоленске, работая на восстановлении смоленского льнокомбината, Женя решила уехать в Таганрог к матери мужа — своей свекрови. Женя рассказала, что в Германии попала в трудовой лагерь на тяжелые мужские работы — резать проволоку и металлический лист. Работа была непосильной даже для мужчин. Немцы своих здоровых мужчин, ранее работавших здесь, отправили на фронт, заменив их русскими женщинами и подростками. Местность, где находилась Женя, освободили американские войска. Женя рассказывала, что им, лагерникам, внушали окружающие: кто чист, должен вернуться в Россию, а кто не чист, тех американцы звали к себе. В Германии не знали, что Женя — еврейка, что отец ее репрессирован. Так как Женя была чиста, она решила вернуться в Смоленск. В Германии, в одном лагере с ней, находился парень из Таганрога, Песоцкий Иван. Он был угнан в Германию несовершеннолетним. Он и предложил Жене пожениться. Женя отнекивалась, так как боялась, что Иван узнает, что ее отец был репрессирован. В то время это было позорно, что ее мать и бабушка погибли в гетто, что узнает о ее национальности: всю эту тяжесть она носила с собой. После войны они в Германии оформили свой брак. Но совсем скоро им пришлось расстаться. Женя приехала в Смоленск, а мужа направили для проверки на два года в Горький на автозавод. Своему мужу до конца его жизни Женя так и не призналась, что мать у нее была еврейка, а отца репрессировали. В Таганроге Евгения Дмитриевна закончила техникум и всю жизнь отработала на котлостроительном заводе. Песоцкий Иван — ее муж, от непосильного труда потерял здоровье и, вернувшись из Горького домой, в Таганрог, вскоре умер, остался сын Юра. Он увлекался подводным плаваньем и в возрасте 31 года утонул в Новороссийске. Он тоже не знал о национальности матери и судьбе своего дедушки. Не знает об этом и внук Максим, 1973 года рождения, живущий в Таганроге. Всю свою жизнь Евгения Дмитриевна скрывала и скрывает свою биографию и национальность.
Ангел-спаситель
М. Кугелев В первые дни войны в составе восстановительного поезда отправился на Запад работник станции Смоленск Моисей Гильденберг. Отбыл и канул в неизвестность. Моисей Симхович разделил участь миллионов защитников Отчизны, пропавших без вести в первый самый страшный год военного лихолетья. Семья — жена Софья Борисовна, две дочери, сын, которому было лишь несколько дней отроду, остались в Смоленске. Эвакуироваться не успели, до последних дней ждали весточки от Моисея. Куда деваться! Где пережить тяжелую годину? В одну из бессонных июльских ночей решила Софья Борисовна перебраться к родственникам мужа в Беларусь. Навстречу веренице беженцев, спешивших укрыться от военных напастей на Востоке страны, двигалась коляска с младенцем, за подол материнской юбки цеплялась пятилетняя Галя, десятилетняя Майя ковыляла сзади с тяжелой для ее лет котомкой со скудным запасом еды и пеленками для братика Бори. Праведница мира Смоленщины Евдокия Семеновна Кабишева при вручении ей почетного звания.
Праведница мира Смоленщины Евдокия Семеновна Кабишева при вручении ей почетного звания.
Сердечные россияне, а затем белорусы, чем могли делились с бедолагами. Ой, каким долгим и беспокойным оказался путь! Вот и долгожданный город Жодино, где, по мнению Софьи Борисовны, семью ждет сытная еда и надежная крыша у родственников. …О ужас! Случайно встретившая семью женщина поведала им, что в городе не осталось ни одного еврея. Три дня тому назад всех, в том числе и семью Гильденбергов, фашисты расстреляли. — Скоренько хувайтесь, — понизив голос до шепота, посоветовала прохожая, — Пан полицейский побачит вас и всем пук-пук будет. Расстреляют и грудного не пожалеют. В какую сторону уходить, где найти убежище для детей? Спасли семью русые волосы Софьи Борисовны, в глаза сразу не бросались семитские черты. Но если присмотреться… Да Берточка все еще не могла понять, почему ей надо откликаться на новое имя Галя. И побрела страхом гонимая за свою жизнь семья в противоположную сторону. Из деревни в деревню, ночуя в чистом поле. Люди не спрашивали, кто они такие и куда держат путь, подавали кусочки, наливали бутылочки молока для грудного Бори. Наконец, привела их дорога в Сутоки, что в Руднянском районе. Немецкий ставленник староста деревни в душе остался советским патриотом. Прекрасно понимая, с кем он имеет дело, выдал Софье Борисовне документы, сменив еврейскую фамилию Гильденберг на украинскую. Поселилась семья в пустующем, полуразвалившемся доме. Зима, холод. Нет дров, чтобы обогреть дом, кончились продукты. Обессилевшая от своей горькой доли Софья Борисовна решила вместе со своими детками добровольно уйти в мир иной. В эти страшные минуты в избу зашла молодая энергичная женщина. Оглянулась, увидела, что здесь все идет к смерти, схватила Борю к себе за пазуху, взяла старших и бегом, чтобы не пробрал мороз, побежала к своему дому. Согрела детей и отправилась за матерью. — Одевайтесь, пойдем, — безапелляционным голосом заявила она. Так и зажила семья Гильденбергов в доме Евдокии Семеновны Кабишевой. Вместе с Евдокией Семеновной питались одной картошкой, вздрагивали при каждом приезде карателей. При отступлении немцев жители деревни спрятались в болоте, недалеко шли немецкие обозы, рыскали различные команды, чтобы погнать всех жителей на Запад. Но чудо свершилось. Семья Гильденбергов, опекаемая Евдокией Семеновной, дождалась прихода советских солдат. Они избежали участи 6 миллионов своих соотечественников. Подвиг Евдокии Семеновны не канул в Лету. В Иерусалиме, в музее Яд Вашем, что означает «имя тебе в доме моем», есть Аллея Праведников, на одном из деревьев табличка, которая сообщает миллионам посетителей, что это дерево посажено в честь смоленской крестьянки, спасшей в годы второй мировой войны еврейскую семью. Директор отдела Мемориала Яд Вашем «Праведники мира» доктор Мордехой Полдиель в своем письме в Сафоново известил Евдокию Семеновну, что ей присвоено почетное звание «Праведница мира». Она награждена Почетной грамотой и специальной медалью. Имя Праведницы Е. С. Кабишевой выгравировано на Стене почета в Яд Вашеме. Как сложилась судьба спасенной семьи? Софья Борисовна умерла в 1954 году. Майя живет в Смоленске, Галя — на Украине, Борис — в Чебоксарах.
Васюта
И. Цынман С 1924 года наша семья жила в доме барачного типа по Петропавловской улице (теперь ул. Кашена), рядом со смоленским вокзалом, который с улицей был соединен пешеходным мостом. Улица и место, где мы жили, были бойкие, густонаселенные: рядом переезд, пакгауз, бойня, спиртзавод, недалеко мастерская отца. Он, работая на железной дороге, вместе с братом изготовлял в мастерской титаны-кипятильники воды, которые отправлялись строителям железных дорог. Сталь и другие комплектующие поступали к нему в большом количестве, и вагонами отправлялась готовая продукция. Все делали сами, использовали простейшие машины. С отцом работали ученики, потом ему дали в помощь нескольких польских офицеров, среди которых были евреи. Сам того не зная, отец спас их. Эти офицеры ночевали не в лагере, а в Смоленске. Они проработали с отцом до начала войны. Один из них — Хиля Шустер, уцелел и после войны встречался с отцом. Я бывал у него в Минске, где он работал в белорусском ансамбле песни и пляски. До начала войны по просьбе Хили отцу удалось через знакомых сделать вербовочный вызов его сестре. Она приехала из Западной Белоруссии, кажется, из приграничного города Волчин. Работала на торфопредприятии «Красный Бор», эвакуировалась и после войны, уехав в США, вышла замуж за американца. В письмах из Волчина сообщалось, что немцы готовятся к нападению на СССР. Огромная семья Шустер, кроме брата и сестры, полностью погибла. При Сталине евреям запрещалось без вызова выезжать со вновь присоединенных к Союзу территорий, это обрекло их на гитлеровский геноцид. А сколько польских офицеров, евреев по национальности, было расстреляно в Катынском лесу в деревне Борок? Моя мать кормила и нашу большую семью, и приходящих с вокзала голодающих украинцев, и работавших с отцом пришлых. В этом ей большим подспорьем был огород, с которого она всю жизнь собирала хорошие урожаи. Матери требовалось много продуктов. Сметану, творог, топленое молоко в горлачах с коричневой корочкой приносила нам с вокзала на коромысле подруга моей матери, Любовь Никифоровна Павлюкова, по мужу Корпаченкова. Жила она в деревне Соколово, за станцией Красный Бор. В 1935 году моему отцу, как передовому стахановцу, дали квартиру в новом трехэтажном доме в центре города, недалеко от пединститута и театра. Верхние этажи были деревянные, а первый этаж — кирпичный. Под нами поселилась семья Дьяченко Анатолия Григорьевича — преподавателя пединститута. У него и его жены Беллы (девичья фамилия Соркина) было две дочери. По рекомендации моей матери в квартиру Дьяченко приняли сестру Любы — Василису Никифоровну Павлюкову, которую все мы звали Васютой. В семье, кроме них, жила мать Беллы — бабушка Лиза. Хотя у нее с мужем (сапожником по профессии) было свое жилье, она помогала дочери. Год у бабушки Лизы жила дочь Любы — Ефросинья, которую звали Фрузой. Тогда она училась на курсах банковских работников. Квартира у Дьяченко, как и у нас, по тем временам была большая двухкомнатная в четыре окна. «Удобства» во дворе. Белла работала в хлебном магазине на углу улицы Советской и Козлова то продавцом, то заведующей. За хлебом в то время были большие очереди, и Любови Никифоровне или Фрузе удавалось там доставать для всех хлеб, а бабушка Лиза на базаре доставала другие продукты. Васюта ухаживала за малыми детьми. До Дьяченко она жила не у сестры Любы, а у брата Максима, в деревне Стомино. Семья брата была многолюдной, и Васюта там была лишней. Она была неграмотна и должна была сама зарабатывать свой хлеб. К 1941 году дочери Дьяченко, Люде, было лет шесть, а младшей Гале около трех. В первые дни войны наш дом сгорел. Анатолия Григорьевича взяли в армию, а Белла и Васюта с детьми и стариками ушли из города и каким-то образом добрались до деревни Круглово, под Ельней. Там они остановились в чужом доме. Дальше идти было нельзя: пришли немцы. Беженцам было приказано возвратиться в Смоленск, но Васюту заставили рыть окопы. С этих работ ей удалось вернуться к сестре Любе в деревню. От людей Васюта узнала, что все смоленские евреи согнаны в гетто, в Садки. Васюта вместе с племянницей Фрузой, дочерью Любы, нагрузившись картошкой, хлебом, бураками, молоком, сметаной, пошли в Садки искать семью Беллы и нашли их. Десятки семей жили в деревянном одноэтажном доме. Евреи еще могли свободно выходить из Садков, даже на базар и по деревням. Им полагалось носить на рукавах желтые нашивки. Перед уходом Васюта не думая, что евреев будут уничтожать, предложила взять детей в деревню, так как в гетто было очень голодно. Она хотела подкормить их в деревне и позже вернуть назад. Старшая Люда вцепилась в мать и отказалась идти, а младшую Галю отвлекли, и она ушла со взрослыми в деревню. Потом Галя жила в деревне, а Васюта и Люба носили в гетто продукты. В деревне Соколово старостой был Глушенков Демьян Акимович. Он знал, что в доме Любы живет еврейская девочка. В деревне Галю не прятали. Все знали, что Васюта жила у евреев. Однажды, летом 1942 года, староста предупредил Любу, что девочку нужно уводить из деревни: немцы были рядом. Пришлось Васюте и Фрузе вести Галю в Садки, к матери. До Смоленска дошли, но в Садки их не пустили: кругом стояли шлагбаумы, въезд и вход были запрещены, все было оцеплено полицаями. Немецкий часовой, к которому обратились с просьбой отдать девочку матери, не стал даже слушать и заорал: «Цурюк, нах хауз». Трудно сказать, пожалел ли немец девочку или все получилось случайно. А что было бы, если у шлагбаума стоял не немец, а полицай? Дом в Смоленске по ул. Войкова, 31-а (ниже педагогического института), где в семье Дьяченко А. Г. жила Васюта и родилась Галя Дьяченко. От зажигательных бомб немецкой авиации дом сгорел в конце июня 1941 г.
Дом в Смоленске по ул. Войкова, 31-а (ниже педагогического института), где в семье Дьяченко А. Г. жила Васюта и родилась Галя Дьяченко. От зажигательных бомб немецкой авиации дом сгорел в конце июня 1941 г.
Васюта и Фруза стали думать, что делать с Галей. В деревню девочку возвращать было нельзя. Любой житель мог ее выдать. За укрывательство евреев могли спалить дом, а то и похуже — расстрелять. Васюта знала, что ее племянница Катя, дочь другого ее брата, Афанасия, заняла пустую комнату в Доме специалистов. Фруза вернулась в деревню, а Васюта с Галей пошли к Екатерине Афанасьевне Павлюковой. Тогда Катя была еще не замужем. Летом 1942 года ей было 20 лет. В этой комнате Васюта, Катя, ее младшая сестра Александра и Галя стали жить вместе. Катя объявила, что Галя ее дочка, раньше жила в деревне. Соседи были между собой не знакомы. Катя научила маленькую Галю звать мамой. В Доме специалистов Галя прожила с лета 1942 года до освобождения Смоленска в сентябре 1943 года, около полутора лет. После освобождения города Катя и Александра вышли замуж и временами покидали Смоленск. Катя умерла 26 марта 1990 года, Шура умерла раньше. Васюты не стало 10 ноября 1988 года. Их подвиг — спасение еврейской девочки остался неизвестным. Они скрывали его во время войны и после. В октябре 1943 года Васюта с Галей пошли в детский дом во 2-м Краснинском переулке, где Васюта ночной няней отработала до ухода на пенсию. С ней была Галя. Отца и мать она забыла. Когда Гале надо было идти в школу, приехал ее отец Дьяченко Анатолий Григорьевич. В войну он воевал, но уцелел. К большому огорчению и слезам Васюты и Гали, он увез свою дочь к родителям в Винницу. Позднее Галя училась в Одессе, вышла замуж и стала Жилиной. У нее трое детей. Несколько раз с детьми, пока жива была Васюта, она приезжала в Смоленск. Васюта последние годы жизни провела в доме для пожилых людей, напротив радиокомитета, на углу улиц Багратиона и Нахимова. Всю жизнь она дружила с моей матерью. В 1975 году, в феврале, она хоронила мою мать, свою постоянную и любимую подругу, ну, а я ругаю себя за то, что только два раза бывал у Васюты и не отдал ей последний долг. Не знал я о ее смерти. Схоронили Васюту в ее деревне.
В объятиях страха, ужаса и смерти
Записал И. Цынман Вот, что рассказала мне Рябцева Галина Владимировна, проживающая в Смоленске, 1927 года рождения: «Моя девичья фамилия Леонова. Я коренная смолянка. Так сложилось, что в годы войны я жила в оккупированном фашистами Смоленске. Считаю, что всем людям надо знать об ужасной, трагической судьбе и гибели оставшихся в оккупации смоленских евреев в минувшую войну. С раннего детства моей подругой была Роза Самуиловна Розова. С Розой мы жили на Мало-Пушкинской улице. Еще до начала войны учились в одной школе. Особенно близко нас сдружила война — немецкая оккупация, когда начали бомбить родной Смоленск. Наши семьи оказались в толпе беженцев на Краснинском шоссе, и мы попали в деревню Буценино. В хату, где мы остановились, женщины принесли подобранного ими раненного трассирующими пулями молодого солдата — Жоржа, лет 20. Я с Розой промывали его раны марганцовкой, но спасти его нам не удалось, он умер в хате на столе. Когда Смоленск оказался под немцем, мы вернулись и поселились в двухэтажном бараке по переулку Ульянова, почти на том месте, где сейчас гостиница «Россия». Отец Розы был преклонного возраста, а мать очень больная, ее все время мучил кашель. Немцы издали приказ, чтобы все евреи, под угрозой расстрела, нашили себе желтые лоскуты, а потом согнали всех в Садки, где селили их по нескольку семей в одной избе. Там в Садках оказался и отец Розы. А Розу и ее мать мы выдали за русских и всю оккупацию они жили вместе с нами как русские. Фамилия и внешность их не напоминали еврейские, а паспорта, по их словам, сгорели. За укрывательство евреев полицаи и немцы могли расстрелять и их, и нас. Когда меня и Розу вызвали в комендатуру, чтобы отправить на работу в Германию, мы сказали, что у нас старые больные мать и бабушка. Мне было 14 лет, а Розе — 16, но она была маленькая, худенькая, хрупкая. Немцы и полицаи поверили, что ей 14 лет, и нас отпустили. Отец Розы почти ежедневно, тайно, под видом нищего, просящего подаяния, приходил в наш барак. В это время я выходила во двор и караулила, чтобы никто его не увидел и не узнал, что это отец Розы. А они в это время чем могли его кормили и передавали с ним питание, что удавалось собрать, в гетто. Несколько раз я с Розой ходила в Садки, мы приносили пищу обреченным. Недалеко от барака, где мы жили в то время, расположенном в безлесном овраге, на противоположной стороне, где были Нарвские казармы, размещался лагерь военнопленных. Жители нашей улицы ходили в овраг за ключевой водой и видели страшные картины: туда привозили и приводили сотни самых истощенных пленных — красноармейцев. Жили они в одном или двух бараках, одеты были в лохмотья, на голове платки, ноги обмотаны тряпками. Эти дистрофики копали мелкие ямки и заполняли их голыми трупами умерших товарищей. Мы с Розой несколько раз перебрасывали через ручей или оставляли там печеную картошку, суп или воду в консервных банках. Даже воды им не хватало. Но за это конвоиры жестоко били. Как только пленные теряли свои последние силы, их, голых, без медальонов, сносили в ямы на носилках вновь прибывшие. В этом овраге лежат сотни, а может, и тысячи наших солдат. Летом 1942 года евреи из Садков исчезли. Отца Розы больше мы никогда не видели. Позже стало известно, что их вывозили в душегубках или расстреливали в Вязовеньковском лесу. Во время оккупации в городе было голодно. Мы с Розой разными путями добывали еду себе, матери Розы и моей бабушке. Чаще всего мы ходили на бойню за кишками, где русские полицаи стреляли в нас на испуг, но во многих и попадали. Ходили также под бомбежками в деревни: выменивать или просто просить поесть что-нибудь. Помню, по Советской улице немцы и полицаи вели очередную колонну военнопленных. Нам удалось вывести из колонны несколько человек. Мы часто выходили к ним, чтобы дать что-нибудь съестного. Некоторым пленным, несмотря на угрозу жизни, удавалось выскочить на тротуар и взять пищу. Большинство, под угрозой расстрела, возвращалось в строй, но наиболее смелым удавалось затеряться в толпе. Одного из них, не знаю имени, мы повели к себе домой как родственника. Оказалось, что это — наш летчик, сбитый немцами. Он пожил у нас несколько дней, потом исчез и больше о себе знать не давал. Однажды смотреть пленных пошла наша соседка Мачульская. Ей удалось в колонне узнать своего родного брата. Он был ранен, истощен. Сестре удалось вызволить его и привести домой. До войны он жил рядом с нами на Мало-Пушкинской улице, а его сын — Женя учился в моей школе. Мачульские до революции были очень богатыми людьми, а в советское время работали как все… В Заднепровье до сих пор есть Мачульская роща. После выздоровления Мачульский стал помощником бургомистра Смоленска, Меньшагина. Об их деятельности я ничего не знаю. После освобождения Смоленска нам приходилось несколько раз менять место жительства. Одно время даже жили в крепостной башне, потом в бильярдной, что стояла в парке, возле озера, а Роза осталась в бараке. Свою площадь мы отдали ей. Роза устроилась в штаб Красной Армии машинисткой, где и проработала до ухода на пенсию. Я пошла в седьмой класс вечерней школы, днем работала в госпиталях, а жила с бабушкой в парке. Еврейская девочка Роза Розова, будучи в оккупации, переносила ни с чем не сравнимые душевные муки, страдания и страхи, которые были бы не под силу и взрослым. И несмотря на это, она осталась очень добрым и душевным человеком, преданной и любимой подругой — спутником всей моей жизни. Умерла Роза в 1993 году, оставив после себя сына, Валерий Анатольевича Розова, хорошего и доброго человека, которого вырастила без отца. Растут и ее двое внучат. Все они уже русские. Раньше факт гибели евреев, попавших в оккупацию, замалчивался. Но Роза успела съездить в Вязовеньковский лес, где был расстрелян ее отец, и где русские и немногие оставшиеся в живых смоленские евреи каждый год, 15 июля, у памятника, отмечают очередную дату трагической гибели смоленских евреев и русских, лежащих в одной могиле. Я адресую свой рассказ не только молодым и старым евреям, которых в Смоленске становится все меньше, но и русским, с которыми евреи веками мирно жили, чтобы все знали и поминали безвинно погибших во время войны людей, чтобы подобное не повторялось».Судьба спасенной девочки
Записал И. Цынман До Великой Отечественной войны Богарад Анна Израилевна вышла замуж за русского Корнеева Алексея Васильевича. В 1936 году у них родилась дочь, которую назвали Аллой. Жили они в центре Смоленска, возле больницы «Красный Крест». Воспитывали Аллу в достатке, мать работала буфетчицей в ресторане, на хорошей работе был и ее отец. Так случилось, что война застала их в городе. Анне Израилевне удалось исправить паспорт, она стала русской, а отчество — Михайловна. С приходом оккупантов Анна Михайловна устроилась к ним на работу в столовую. Дочка Алла была с матерью и отцом. Все было бы терпимо, но кто-то из соседей выдал мать, и ее забрали в гестапо, откуда она не возвратилась. Алексею Васильевичу в гестапо объявили: «жену не ждите и можете жениться на русской или украинке». Случайно Аллу не тронули и о ней забыли. За пятилетней Аллой стала присматривать соседка Анны Израилевны — бабушка Ирина Корнеевна Зарубина. Но долго Алле в Смоленске оставаться было опасно. Боясь, что и ее выдадут как еврейку, Ирина Корнеевна отвела Аллу к своим родственникам в деревню Станички, что в 5 км от Смоленска, в семью однофамильцев Корнеевых Марфы Даниловны и ее дочери Екатерины Андреевны. Муж Марфы Даниловны Андрей Иванович был больной и в 1942 году умер. Аллу выдавали за внучку Ирины Корниловны Зарубиной. Пятилетнюю девочку предупредили, чтобы она о себе и своей матери никому ничего не рассказывала. С большой болью и тревогой маленькая Алла переносила утрату матери и, по сути, потерю отца. Она стала замкнутой. Замученная насмерть мать всегда оставалась в ее маленьком сердце. С освобождением Смоленска Алла вернулась к отцу, а Ирина Корнеевна Зарубина продолжала за Аллой присматривать. Вскоре в семье Аллы появилась мачеха. У отца появились другие дети, и Алла стала никому не нужной. Лет восемь она училась в школе, а потом все пошло через пень-колоду. Дальнейшая жизнь у нее не сложилась ни с получением образования, специальности, ни с работой, ни с замужеством. Большую часть жизни она работала няней в детском саду. Сейчас Алла Алексеевна Корнеева живет в Смоленске одна. Пенсия у нее маленькая, нет ни детей, ни родных. Из людей, спасавших Аллу, осталась в живых только Екатерина Андреевна. Июль 2000 г.Цена жизни
Записал И. Цынман Моя собеседница Лукашенко Таисия Александровна, 1915 года рождения, уроженка г. Бобруйска. В Смоленске живет с 1933 года. До войны жила на Красноармейской улице, около теперешнего здания гостиницы «Россия». «Я была замужем, дочери Эмилии в 1941 году было 3 года. Работала на хлебозаводе. Город и войска надо было кормить, и нас с завода не отпускали. Перед отступлением наши войска взорвали хлебозавод, но эвакуироваться было уже поздно. Мой муж в 1940 году умер. Я с дочкой и родителями мужа ушла в Астрагань, что находится за Гедеоновской больницей, а потом поселились поближе к городу у родных мужа в Пискарихе, где прожили всю войну. Наша халупа — это приземистый домик и четыре сотки земли. Немцы и полицаи заставляли всех работать. Чаще мне приходилось трудиться в госпитале, что был в Гедеоновке. Там я стирала белье, чистила картошку, мыла полы — за что давали домой суп, кусочки хлеба с опилками. Иногда, когда приходилось стирать белье немецким сестрам, давали немецкие марки, на которые можно было приобрести дрова, хлеб, соль. До войны мой муж Евгений Михайлович работал в Управлении связи вместе с Михаилом Моисеевым. Он был русский, из интеллигентной семьи. Отец Михаила был адвокат и в 1937 году был репрессирован и расстрелян. Жена Михаила — Ревекка Соломоновна Мервель оставалась на своей фамилии. У Михаила была бронь, больная белокровием мать и двое детей — Инга и Наташа. Уехать из Смоленска они не успели. Ревекка Соломоновна пришла к нам в Пискариху и попросила убежища. Ее, как и меня, вызвали в гестапо, где измеряли носы. Муж Ревекки Михаил, чтобы исправить фамилию, имя и отчество жены и спасти детей, устроился на работу в городскую управу. Поставленная цель была достигнута. Ревекка стала Маргаритой Семеновной Моисеевой. Инга и Наташа остались у отца и свекрови, а их мать одна прожила у нас более полугода, пока ее муж Михаил сумел переправить ее в грузовой машине с другим документом в Минск, где варшавский брат Михаила определил ее у надежных друзей. Что с ней было в Минске, как из Минска попала в Германию — эти тайны она унесла с собой в могилу. В послевоенные годы не принято было об этом спрашивать. Люди, в войну побывавшие в Германии, не пользовались доверием властей. В 1944 году Ревекка Соломоновна вернулась в Смоленск. К этому времени ее муж Михаил был арестован, а мать Ревекки вернулась из эвакуации и работала секретарем и архивистом в медицинском институте. Она нашла Ингу и Наташу в детдоме и взяла к себе. Помногу месяцев девочки жили у меня в Кардымове, где я после войны работала главным бухгалтером. Мать Ревекки нашла адрес Михаила. Пока он был жив в лагере, она посылала ему лук и чеснок. Михаил умер в ссылке, считай, на каторге. Он был честный, порядочный человек и погиб, спасая свою мать, жену и своих дочерей, которых нацисты могли считать еврейками. Ревекка Соломоновна долгое время работала в кинотеатре пианисткой, играла и в ресторанах, и на концертах. Когда она приобрела жилье, то взяла детей от матери к себе. В 1998 году Ревекка Соломоновна умерла. Инга закончила иностранный факультет пединститута, сейчас пенсионерка, но еще работает в школе в г. Сафоново. Когда она приезжает в Смоленск, то останавливается и ночует у меня. У нее двое сыновей. Один в Сафонове, другой на Украине. Наташа живет в Санкт-Петербурге. У нее сын и дочь, с которой живет. Когда Ревекка Соломоновна была жива, она всегда считала меня своей спасительницей».КОЛОДНЯ, КАРДЫМОВО
Евреи в Колодне и Кардымове
И. Цынман Хотя до Октябрьской революции для евреев были ограничения в местах для жительства, но они искали и находили возможность жить повсеместно в городах, местечках, деревнях. С постройкой железных дорог евреи Смоленщины и Белоруссии стали селиться на железнодорожных станциях, где они находили работу на железной дороге, торговали на пристанционных площадях, занимались ремеслом, переработкой, скупкой и отгрузкой сельскохозяйственного сырья и продукции. Большая еврейская община (более сотни евреев) жила вблизи Смоленска на станции Колодня. Сохранилась в памяти фамилия Пинусов. Один из них был директором Смоленского деревообрабатывающего завода. И хотя одно время он назывался «Красный пролетарий», в городе его именовали «завод Пинуса». В торговле работали многие Рубиновы. В близкой к Колодне деревне Мох-Богдановка жили Гейвашевичи. Один был преподавателем в Смоленском пединституте. Жили евреи и на соседних железнодорожных станциях Духовская, Волчейка, Приднепровская, Кардымово. В смоленской газете «Рабочий путь» от 18 марта 1995 года опубликована статья В. Кузьмина, посвященная 85-летию кардымовского молочно-консервного завода, расположенного в деревне Вачково. Построил его в 1910 году местный помещик А. Г. Гуревич. Новое производство хорошо вписалось в экономику региона. К 1914 году завод вырабатывал сгущенное и сухое молоко, сливочное масло. Предприятие имело хорошее оборудование для того времени, задумывалось оно как совместное русско-швейцарское производство с названием «Мильх-верке». Новая власть оставила основателя завода А. Г. Гуревича в качестве руководителя. Правда, ненадолго. Продукцию завода забирали московские кондитерские фабрики, она ценилась за высокое качество. В тридцатые годы здесь стали вырабатывать сгущенное кофе и какао. В войну предприятие сильно пострадало, а в девяностые годы оказалось в глубоком кризисе. Об этом было рассказано в статье «Рабочего пути». Были, оказывается, на Смоленщине не только евреи-ремесленники, земледельцы, молочники, торговцы, но и помещики, и рядом с ними русские молочники и еврейские тевье-молочники. Сейчас в этих местах евреев практически нет.ГУСИНО
И. Цынман Станция Гусино находится в Краснинском районе, в оживленном месте, недалеко от границы с Белоруссией. Евреи жили здесь издавна. В Гусине был организован национальный еврейский колхоз. Перед войной сюда переехали евреи из колхоза «Новый быт», который был в деревне Смилово, рядом с Маньковым. По воспоминаниям Льва Исаевича Беленького — инвалида Великой Отечественной войны, живущего в интернате для престарелых в Вишенках, евреи в Гусине жили, главным образом, на Советской и Пролетарской улицах. Во время войны эвакуироваться успели немногие. 5–8 февраля 1942 года было расстреляно 265 евреев. На месте расстрела какой-то отставной прапорщик построил себе усадьбу. В Гусине погибла вся семья Беленьких, семьи Симкиных, Айзенштат, Белкиных, Абкиных, Брискиных, Поляковых, Пайн, Дрендель, Шленских. Абрам и Гирша Шленские держали водяную мельницу на речке Березка, притоке Днепра, около деревни Дубровка. Отец Беленького, Исай, был кожевником. Помнит Лев Исаевич парикмахера Фейгина, мясника Финкельштейна. Вспоминать и говорить о Гусине ему трудно. Около военного городка в Гусине есть памятник погибшим евреям.СТАНЦИЯ КРАСНОЕ
На полпути между Любавичами и Лядами
Записал И. Цынман Вот что сообщил житель г. Смоленска Зуй Сергей Федорович, 1918 года рождения: «На станции Красное и расположенных рядом деревнях Лонница и Красная Горка до войны проживало более десятка еврейских семей. Дома и хозяйства у них были хорошие, семьи были многодетными. В основном евреи занимались скупкой и заготовкой сырья, строительных материалов, продуктов питания, торговлей, а также огородничеством и ремеслами. Местные евреи имели тесные связи с белорусским местечком Ляды. С Лядами сообщались через организованную евреями переправу через Днепр. Большую часть года здесь работал паром. Была связь и с недалекими Любавичами. В еврейских домах на станции всегда могли найти ночлег и необходимое обслуживание пассажиры, ожидающие поезда или гужевого транспорта. В годы оккупации все еврейское население этих мест погибло. Прошло много лет, но долгожители станции помнят фамилии многих погибших евреев: Белкины, Гуревичи, Цыпины, Великовские, Певзнеры и другие. Белкины имели на станции Красное базу, где принимали доставляемое из Лядов и Любавичей сырье, а со станции — различные товары. Сырье сортировали и отправляли заказчикам. Часто за сырье расплачивались привозимыми по железной дороге товарами. Предметами купли-продажи были пенька, льноволокно, шкуры, зерно, строительные материалы, продукты питания. Белкин был расстрелян первым в самом начале оккупации. Из семьи Великовских вспоминают Геську, его мать — бабушку Шейну, жену Ривку. Кто-то из Великовских был на фронте и уцелел. До недавнего времени его видели в Смоленске. Большинство евреев станции Красное не успели эвакуироваться. В 1942 году полицаи собрали всех женщин, стариков, детей и погнали в Любавичи, где и расстреляли. Одна еврейка, чье имя забыто, была замужем за русским. Когда ее забирали, муж пошел с евреями. В Любавичах, вместе со своей семьей, он был расстрелян. В наши дни связи Лядов со станцией Красное нет. Переправа через Днепр не работает. Ляды и станция Красное теперь в разных странах».КРАСНЫЙ Отрывок из «Черной книги»
Софья Глушкина (агроном) «До войны я жила в Минске. 24 июня 1941 года проводила мужа на фронт. Затем я вышла из города с ребенком, ему было восемь лет, и пошла на восток. Я решила добраться до моей родины — города Красного, забрать отца и братьев. В Красном меня настигли немцы, они пришли туда 13 июля. 26 июля вывесили приказ — собираться жителям города. На собрании немцы сказали, что все могут въезжать в дома евреев. Еще они заявили, что евреи должны беспрекословно подчиняться всем распоряжениям немецких солдат. Начали ходить по квартирам, раздевали, разували, били нагайками и плетьми. 8 августа в дом, где я жила, ворвались эсэсовцы. У них были жестянки с изображением черепа. Они схватили моего брата, Бориса Семеновича Глушкина. Ему было 38 лет. Стали его бить, потом выкинули на улицу, издевались, повесили на грудь доску, наконец, бросили в подвал. На следующее утро были расклеены объявления: «Все жители города приглашаются на публичную казнь жида». Моего брата вывели, у него на груди было написано, что сегодня его казнят. Его раздели, привязали к хвосту лошади и поволокли. Он был полумертвый, когда его убили. На следующую ночь, в 2 часа, снова стучат в дверь. Пришел комендант. Он потребовал жену казненного еврея. Она плакала, потрясенная страшной смертью мужа, плакали трое детей. Мы думали, что ее убьют, но немцы поступили гнуснее: ее изнасиловали здесь же, во дворе. 27 августа прибыл специальный отряд. Согнали евреев, объявили, что они должны немедленно принести все добро и сдать, а потом перейти в гетто. Немцы отгородили участок земли колючей проволокой, повесили вывеску: «Гетто. Вход запрещен». Все евреи, даже дети, должны были носить на груди и на спине шестиконечные звезды из ярко-желтой материи. Каждому было предоставлено право оскорблять и бить человека, у которого была такая звезда. В гетто по ночам устраивали «проверки», выгоняли на кладбище, насиловали девушек, избивали до потери сознания. Кричали: «Поднимите руки, кто думает, что большевики вернутся». Гоготали и снова били. Так каждую ночь. Это было в феврале. Ночью ворвались эсэсовцы, стали светить фонариками. Их выбор остановился на восемнадцатилетней девушке Эте Кузнецовой. Ей приказали снять рубашку. Она отказалась. Ее долго били нагайкой. Мать, боясь, что девушку убьют, шептала: «Не противься». Она разделась, тогда ее поставили на стул, осветили фонариком и начали издеваться. Трудно об этом рассказывать. Счастливцы убегали в лес. Но что было делать старикам, женщинам с детьми, больным? У меня были товарищи в Красном, с которыми я хотела уйти партизанить. Мы ждали, чтобы потеплело. Но вот 8 апреля 1942 года товарищи сообщили мне, что прибыл отряд карателей. Мы решили попытать счастья. За полчаса до оцепления я вышла из города. Куда идти? Повсюду полиция. Нас травят, как зайцев. Я добралась до лагеря, где находились военнопленные, с которыми была связана. Город окружили. Евреев всех загнали в один двор, заставили раздеться. Мой отец пошел первым. Ему было 74 года. Он нес на руках своего двухлетнего внука. Жена моего старшего брата, которого убили еще в августе, Евгения Глушкина, взяла с собой двух детей, 12-ти и 7-ми лет. Третьего, годовалого, она оставила в люльке. Она думала, что, может быть, звери пощадят младенца. Но немцы, закончив расстрел, вернулись в гетто, стали подбирать тряпье, увидели в люльке Алика. Немец выволок ребенка на улицу и ударил головой об лед. Начальник отряда приказал разрубить тело младенца на куски и дать его собакам. Я ушла к партизанам. Мне было трудно с ребенком, но в тяжелых условиях помогли солидарность, товарищество, человеческая заботливость. Большие переходы, частые заставы. Я была связной. Дважды я встречала карателей, но ушла. Мой сын был ко всему готов. Я ему говорила: «Если меня поймают, если будут бить или колоть булавками, если я буду плакать или кричать, ты молчи». Восьмилетний мальчик никогда не жаловался, умело держался с немцами, он был настоящим партизанским питомцем. Два года мы сражались, и вот пришел день, когда я увидела Красную Армию».ПЕРЕПИСКА С И. Г. ЭРЕНБУРГОМ
Записал И. Цынман Житель Смоленска Мадлин Евгений Леонович 1 ноября 1998 г. показал мне пожелтевшее от времени письмо, полученное от Ильи Эренбурга, датированное 24 ноября 1944 года. Он писал: «Дорогой товарищ Мадлин. Я получил Ваше интересное и ценное письмо. Я занимаюсь в данный момент обработкой документов, доказывающих зверское уничтожение фашистами еврейского населения в захваченных областях. Я прошу Вас подробнее, со всеми деталями, именами описать события в Красном и подробно рассказать, как Вам удалось спастись. Посылаю Вам бумагу, прошу посвятить этому несколько часов и все описать. Мой адрес: Москва, М. Дмитровка, 16, «Красная звезда», Илье Эренбургу». Это письмо Евгений Леонович пронес на фронте всю войну. Оно было с ним во всех боях, в полковой разведке, при противотанковом орудии (ПТР), минометном орудии и в госпитале после тяжелого ранения 17 февраля 1945 года под Кенигсбергом. Евгений Леонович рассказывает: «В первом письме о событиях в Красном я писал кратко. После оккупации фашистами Красного и бегства от массового расстрела наша семья пряталась до освобождения в Краснинском и других районах Белоруссии. В одном районе и месте находиться было очень опасно. В первом письме более подробно я не мог писать Эренбургу только по причине отсутствия бумаги. Первое письмо я писал карандашом — не было чернил. Ответ и бумагу я получил в Красном, как раз в то время, когда я призывался в армию. Второе письмо я послал из полковой школы младших командиров, откуда я через три месяца вышел сержантом и уехал на 3-й Белорусский фронт. Второй ответ Эренбурга был с благодарностью. Он писал, что мой рассказ будет включен в «Черную книгу». Ответ мне сохранить не удалось…». От себя добавлю, что в том издании «Черной книги», которое я читал, этого рассказа нет, но о событиях в Красном в книге был помещен рассказ его знакомой Сони Глушкиной. С тех пор прошли многие десятилетия, и я прошу Евгения Леоновича кратко изложить, что он помнит о событиях тех лет. Вот продолжение его рассказа. «Родился я в 1926 году в Красном в семье скотозаготовителя. Семья наша была большая: мать домохозяйка, у меня было два брата и две сестры. Большую часть жизни в Красном наша семья жила с землей, коровой, другим скотом и птицей. В Красном в еврейской школе я не учился. Ее закрыли до моего поступления в школу. Немцы вошли в Красный 14 июля 1941 года. Мой старший брат строил оборонительные сооружения и нас потерял. Позже выяснилось, что ему удалось перейти линию фронта и, будучи младшим лейтенантом, он погиб в боях за Керчь 24 января 1941 года. Похоронен он был в деревне Каменка в трех километрах от Керчи. Наша семья еще до прихода немцев 12 июля на лошади уехала из Красного и застряла в дер. Палкино в 15 км от Красного. Здесь мы были около 2-х недель. Пришлось вернуться в Красный, в свой дом. В августе и сентябре нашу семью беспокоили мало. В октябре была сформирована полиция из русских и белорусов, и начались зверства. Потом собрали всех евреев: около ста человек. В моей памяти сохранились фамилии семей: Цейтлины, Глушкины, Красновские, Сорины, Сорокины, Михальчук (жена у него еврейка, двое маленьких детей), другие фамилии не помню. На сборе около комендатуры (в школе) приказали евреям носить десятисантиметровые желтые знаки на груди и на спине и всюду быть с этими лапиками. Затем они определили место гетто — в доме Цейтлиных и соседних двух домах. Ограждения не было, теснотища была ужасная, спали где попало. На домах, где жили евреи, были желтые знаки. Там мы прожили всю зиму до массового расстрела 7 и 8 апреля 1942 года. До зимы евреи работали на овчинном дворе — обрабатывали и грузили для отправки немцам урожай, пилили дрова, мыли немцам полы. Зимой чистили от снега дороги. Евреи голодали, так как менять на продукты уже было нечего. В гетто поселили двух молодых мужчин, уцелевших после Монастырщинского расстрела. Один был переводчик, а второй художник. Они работали в комендатуре. 7 апреля они пришли в гетто на обед. Полицаи их отпускали. Они сказали, что слышали разговор в комендатуре — приехала команда СС и их командир просил комендатурских немцев найти и выдать шнапса, так как им предстоит работа. Молодые мужчины узнали, что будет расстрел. В это время я был у Цейтлиных в доме, быстро вернулся, обо всем рассказал матери. Сняв желтые знаки, семья, кроме меня, ушла к знакомым в деревню Сорокино, оттуда в деревню Буяново, что в 5 км от Красного, где я с ними должен был встретиться. Я вернулся к Цейтлиным. Молодые мои товарищи, отощавшие, но красивые, сидели на кухне и ждали смерти. В комнате, где я находился, одно окно выходило на улицу, а второе во двор. В пять часов еще что-то можно было решить, но инициативы не было. Без пятнадцати шесть на улице у дома появилась машина, из которой стали выскакивать эсэсовцы и полицаи. Они окружили дом. Я выскочил в окно во двор босой и по снегу добежал до кирпичного сарая «Заготзерно». В меня стреляли, я бежал в ров и спасся от выстрелов. Почти босым шел я в Буяново, при этом до красных волдырей обморозил ноги. Спаслась только наша семья и Соня Глушкина с ребенком. Расстрелы были и 8 апреля. Полицаи и немцы рыскали по всем деревням, вылавливали и привозили для расстрела евреев, даже прятавшихся в деревнях, что в 20 км от Красного. Но нам повезло, нас не нашли. Русские люди нас надежно спрятали, жаль, что забыл их имена. Через три дня я пришел в Красный. Знакомые мне сказали, что всех евреев расстреляли и закапывали живьем. Земля над обреченными долго дышала. Мой двоюродный брат Миля Петров (его мать — моя тетя) спрятался в печку-голландку. От страха он, пятнадцатилетний, как-то туда залез. Полицаи его не нашли. Назавтра он пошел в дер. Сорокино и встретил полицаев, которые его застрелили. Такая же участь постигла и моего дядю Наума Сорина. Место, где расстреливали и сваливали убитых и раненых евреев, называется Буриевщина. Сейчас там стоит маленький памятник-камень, всеми забытый. Памятник поставили старший сын Сориных Александр Наумович и заведующий музеем Ерашов. Александр Наумович воевал, но уцелел. Собранных в доме Цейтлиных и других домах евреев на огромных крытых машинах повезли в Буриевщину, к месту расстрела. Проезжая через мост, студентка 3-го курса Смоленского мединститута Сорина Рива сумела выпрыгнуть из машины в речку Свилая. Ее застрелили и бросили к пока еще живым людям в машину. Разные были русские люди. Одни полицаи и предатели убивали, грабили или выдавали тех, кто прятался, а другие, рискуя жизнью, спасали евреев, людей попавших в беду: партизан, коммунистов, патриотов, попавших в окружение солдат. В одном месте долго опасно было оставаться. Наша семья 25 месяцев оккупации бросалась в разные деревни: Сорокино, Буяново, Павлово, Николаевку, Семеново, Соломоново, а потом попали в Белоруссию: в Ленинском районе деревни Романово, Баево, в Мстиславльском районе Лютня, Бобрики, Конезавод. Последние три месяца перед освобождением все лето мы жили в лесу, в землянке. Питание просили в деревнях, что всегда было очень опасно. В лесу мы вставали с покрытых тряпками земли или хвои. Прислушивались: идет бой или нет. Когда стреляли орудия, мы были рады — идут наши. 25 сентября 1943 года в лесу под Мстиславлем мы встретили Красную Армию. Сначала я один с попутными машинами добрался до Красного, а потом военные нас всех перевезли в наш уцелевший дом. Солдаты, перевозившие нас, подсказали мне написать письмо Эренбургу, дали его адрес». Ноябрь 1998 г.ЛЯДЫ
У реки Мереи
И. Цынман 21 июля 1991 года несколько смоленских пенсионеров: З. Н. Фрадкин, Е. Я. Дынин, Ю. В. Пухачевский пригласили меня посетить Ляды, находящиеся на границе Смоленской и Витебской областей на берегу реки Мерея. На правом смоленском берегу этого притока Днепра находится захоронение более двух тысяч жителей этого еврейского местечка и беженцев из белорусских городов, не сумевших выйти из немецкого окружения. По дороге из Красного, не доезжая моста через Мерею, справа мы увидели красный камень, поставленный в память событий 1812 года, а рядом с ним памятник, сооруженный в 1966 году на средства, собранные родственниками погибших. На камне мы прочитали: «Здесь находятся останки более двух тысяч советских граждан: женщин, стариков, детей, замученных и убитых фашистами 2 апреля 1942 года. Вечная память погибшим. Родные! Память о Вас живет, и вечно будет жить в наших сердцах. Ляды. 1966 г.» Рядом с огороженным памятником находится большое непаханное поле, заросшее ковылем с большими провалами, следами мест захоронений. О том, что случилось в Лядах, рассказала 31 октября 1943 г. газета Западного фронта «Красноармейская правда». Капитан В. Ю. Усалиев в ней сообщал: «…У реки Мереи на самой границе между БССР и Смоленской областью дорогу пересекает глубокий ров. На следующий день после освобождения местечка Ляды от немецких захватчиков представители Красной Армии и гражданских организаций произвели раскопку рва, и перед ними предстала страшная картина злодеяний немцев. Ее довелось увидеть сотням бойцов и офицеров, проходящих по дороге. Воины подходили к краю глубокой ямы, когда они смотрели вниз, у них замирали сердца. Закутанный в одеяло ребенок с соской во рту, лежащий в объятиях растерзанной матери. Обезображенные трупы седых стариков, молодых женщин, юноши с размозженными головами. И бойцы, с побледневшими от боли и гнева лицами, оглядывались назад как бы для того, чтобы навсегда сохранить в памяти увиденное, и еще крепче сжимали винтовки. Рабочий хлебопекарни Афанасий Евсеевич Семенов рассказывал нам о том, что произошло в Лядах. Гитлеровские людоеды с первых же дней учинили настоящую расправу над населением местечка: грабежи, насилие, убийства были обычным явлением. Население Лядов никогда не забудет апрельских дней 1942 года. В местечке было пустынно и мертво — люди боялись выходить на улицу. Эта страшная тишина была внезапно прервана воплями, доносившимися из здания школы-десятилетки, которую немцы превратили в тюрьму. Сюда были согнаны жители местечка и окрестных деревень. В течение нескольких месяцев люди томились в этой тюрьме. Фашисты морили их голодом и холодом, пачками увозили в «душегубках», зверски избивали. В тот мрачный апрельский день гитлеровцы решили сразу избавиться от своих пленников и повели их на расстрел. Здесь были старики, женщины и дети. Людей расстреливали группами по сто и двести человек. Это массовое убийство беззащитных, невинных людей продолжалось целый день. Женщин с грудными детьми на руках, стариков, девушек и юношей фашистские конвоиры гнали по улице, как скот на убой. Остальным жителям запретили выходить на улицу в этот день. Кровавая расправа продолжалась и в следующие два дня. Гестаповцы устраивали облавы, хватали и убивали всех, заподозренных в сочувствии партизанам. Гитлеровцы глумились над своими жертвами. Они кололи людей штыками, переламывали им кости, живыми закапывали в землю. Не щадили палачи и детей. Мерзавцы выламывали им руки и ноги, живыми бросали на трупы расстрелянных и закапывали. Так расправились гитлеровские звери с жителями белорусского местечка. Мы стоим перед грудой изуродованных трупов советских людей. Их кровь зовет к мести, беспощадной святой мести гитлеровским убийцам!..» Так заканчивает свое повествование в газете капитан Б. Ю. Усалиев. Ляды. Памятник трем тысячам евреев белорусских Лядов, расстрелянных на смоленском правом берегу пограничной реки Мерея.
Ляды. Памятник трем тысячам евреев белорусских Лядов, расстрелянных на смоленском правом берегу пограничной реки Мерея.
Когда мы приехали к памятнику, там была машина из Орши. Родственники погибших и единственный еврей, житель Лядов, учитель местной школы Илья Соломонович Оренбург помянули погибших. Житель Орши Борис Михайлович Луговнер читал у памятника поминальную молитву-кадыш. В Смоленске, где до войны жило более 30 тысяч евреев, где было три синагоги, три национальные еврейских школы, еврейский педтехникум, теперь уже кадыш читать не умеет никто. В местной школе в Лядах после войны был интересный музей, куда школьники, учителя и местные жители приносили собранные ими интересные материалы. Ухаживали также и за захоронением и памятником, приносили цветы. ...
Все права на текст принадлежат автору: Иосиф Израилевич Цынман.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Скачать или читать эту книгу на КулЛиб
Скачать или читать эту книгу на КулЛиб