Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
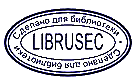

Ольга Николаевна Михайлова Книжник
Часть первая
Глава 1
1984 год.
«Nox erat et celo fulgebat luna…», пробормотал он еле слышно себе под нос. «Была ночь, и в небе светила луна…» Сигарета чуть подрагивала в опущенной через перила руке Адриана, и лунный диск, казалось, растворялся в её сероватом дыму. «Nox erat et celo fulgebat luna…» Парфианову всегда нравилась латынь, ее благородный лаконизм и смысловая наполненность, и в этой простой фразе ему тоже невесть отчего мерещилось что-то сакральное, почти колдовское. Отец Адриана удивился, когда сын выбрал филологический факультет. Однако Парфианов просто предпочёл то, что было по душе, и уже четвёртый год окунался в стихию чужих замыслов и писаний, отдавался мелодике вечных строк, вслушивался в чеканную метрику мёртвых языков. Его всегда и везде видели с книгой, и «Книжник» — прозвище, Бог весть кем уроненное, прилипло к нему быстро и навсегда. Сломанная раскладушка, на которой лежал Книжник, перегораживала выход на балкон их комнаты в общаге, и справа от него была ночь. По левую сторону чернел провал двери в комнату. Изредка Адриан поворачивал туда голову, и в лунном свете видел, как две блондинки, Ванда Керес и Юленька Левитина, известная среди сокурсников как Жюли, спаривались с его дружками. Ванда — с длинноносым Веней Шелонским и комсомольским богом Вовочкой Вершининым, физиками-математиками, а Жюли — с Мишелем Полторацким и Казей Лаанеоргом, будущими биологами. Стоны были столь громки, что он, потянувшись с болезненной гримасой на лице, прикрыл дверь на балкон. Книжник ненавидел Турмалину, как окрестили студенты общагу, — по наименованию улицы, где она находилась. Пятиэтажное здание за десятилетия провонялось несусветными запахами гнилых полов, прелой извёстки, годами не ремонтировавшейся канализации и горелого масла с кухонь. В душевых вода растекалась по стенам из заржавленных кранов, бачки туалетов при смывании издавали утробные звуки, в которых Книжник улавливал финальные аккорды вагнеровского «Полёта валькирий». Адриан неоднократно подумывал перебраться на частную квартиру, но не хотел обременять отца, а поселиться с отцом мешало понимание, что тому всего сорок три и ночевал отец не один. В итоге приходилось, скрипя зубами, терпеть еженедельный бордель в комнате. Нет, Парфианов, в общем-то, не был ханжой, и блудные забавы сожителей в первые годы учёбы его даже забавляли. Особенно веселила Ванда, студентка истфака из Эстонии, категорически решившая выйти замуж девственницей, и потому соглашавшаяся только на контакты, не лишавшие её невинности. Парфианов отдавал должное её твёрдым принципам, даже уважал их, чуть, правда, посмеиваясь. Терпел он и общество белокурой Жюли, будущей журналистки. Не столь привередливая, как Керес, она отказывала дружкам только когда приходила пора «розовых камелий». Однако за минувшие годы всё происходящее перестало забавлять Книжника, потаскушка-девственница Ванда и шлюха Жюли, подружки Шелонского и Полторацкого, осточертели. На этот раз он был вуайером поневоле: его дружок Алёшка Насонов уехал к родителям, в его комнате этажом ниже отмечали чью-то днюху, деваться на ночь глядя было некуда, и Парфианов предпочёл уединиться на балконе. Но вскоре Книжник забыл обо всём. Ночь бодрила, вспомнилась уайльдовская «Саломея», «белые ножки царевны, обутые в серебряные сандалии…», он бормотал себе под нос что-то из Гейне, ему уже не мешали звуки за балконной дверью. Подхваченный мелодичным пением цикад, лунным светом, арбузным запахом свежей травы, оставшейся после вечернего ливня, он вытащил из кармана блокнот и огрызком карандаша стал торопливо царапать приходящие на ум строки. Они были полубредовыми, но поправить он мог и после, главное, успеть записать.«Всего на тон темней, и тише на полтона!
Пусть умолкнет пичуга в зарослях миртовых,
этой ночью сам я себе — Бетховен!
мрак сгустите ночной, цикаду утихомирьте!
Чешуёй золотой бежит по воде моё веселье!
Ни обуздать, ни прикрыть листком фиговым!
Я заставлю жаб танцевать тарантеллу
с нетопырями, ретивыми жиголо!
И, колыхаясь на травах, в ручьях искрясь и барахтаясь,
эхом горным звеня в скальных бездонных трещинах —
То козлоногим сатиром, то смиренным монахом, —
кем не привижусь — все тебе примерещилось…»
Глава 2
Да, Парфианова зауважали, — как опасного подлеца, от которого надо держаться на расстоянии и на которого вообще лучше не нарываться без крайней надобности. Мнение это распространилось весьма широко, и многие после годами оценивали Парфианова согласно с тем представлением, которое сложилось у каждого при восприятии рассказа, на полгода ставшего в общаге притчей во языцех. Сам Книжник недоумевал, как странно устроены эти люди: декларируют нетерпимость к подлости, но, считая тебя подлецом, уступают дорогу и здороваются уважительным полушёпотом. К несчастью, через полгода произошло нечто похлеще. К ним на этаж подселили несколько первокурсниц, среди которых были и Ванда с Жюли. Но была и Вероника Северинова — прыщавая кривоногая худышка с экстатическими глазами, в которых при внимательном взгляде замечалось лёгкое косоглазие. Что могло понравиться ей в Парфианове? Нет-нет, безусловная мужская привлекательность в нём даже слегка избыточествовала, но ведь дурочке сразу сообщили, что упомянутый красавец — сволочь запредельная, гадина развратная и настоящий гестаповец. Ничего не помогло. Девица так изнурила себя любовью — с бессонными ночами и полным отсутствием аппетита, что стала вызывать беспокойство сокурсниц. Одна из них решилась на разговор с Парфиановым. Адриан выслушал её молча. В последние несколько месяцев, возвращаясь с лекций, он неизменно встречал Северинову на лестничном пролёте, ведущем на их этаж, и не мог не заметить её восторженного, полупомешанного взгляда. Но старательно делал вид, что ничего не замечает. Девица не нравилась ему. На слова подруги Вероники Адриан тоже не ответил, только пожал плечами и быстро ушёл. Всё продолжалось, но, если поначалу равнодушие Парфианова встречало некоторое понимание среди обитателей Турмалины, а влюблённая дурочка удостаивалась нелестных эпитетов, то со временем их отношение к происходящему изменилось. Одержимая страсть психопатки стала вызывать сочувствие. Над ней перестали смеяться, при встречах всё отводили глаза. Никто не смел ничего сказать Парфианову, но тот стал порой ловить на себе негодующие взгляды дружков, а один из них, Казя Лаанеорг, в ответ на прямой вопрос Адриана даже проронил, право, нечто уж совсем невероятное: «В мире так мало любви, нельзя пренебрегать…» Глаза Адриана расширились и странно блеснули, он долго смотрел на Казимира, почти не мигая, тем не менее, пренебрегал по-прежнему. И это, — особенно после того, как вздорная глупышка наглоталась каких-то таблеток, хотя серьёзно и не пострадала, — послужило причиной новой волны остракизма. Северинова вскоре была отчислена: любовь не оставляла времени для учёбы. Адриан, узнав об этом, предложил Шелонскому — дело было после сессии — посидеть с шампанским в ресторанчике неподалёку. Шелонский глубоко вздохнул, внимательно поглядел на него и согласился. Он был единственным, кто никогда не упрекал Парфианова за равнодушие к косоглазой каракатице, ибо был ярко выраженным эстетом, но дурочку всё же жалел. Он вообще, как подметил Парфианов, был весьма сентиментальным сукиным сыном. История эта большого шума не наделала, но усугубила негативное отношение к Адриану. Третий курс добавил Шелонскому новых впечатлений, хотя и несколько иного рода. Программа факультета была идеологизирована в той же мере, что и вся система образования, и дважды в неделю молодые филологи, равно как и юристы, биологи, физики и математики парились на лекциях по истмату, диамату и научному коммунизму. При этом общие лекции на всех факультетах позволяли Парфианову никогда не заниматься конспектами — он брал записи у Шелонского, а время лекций использовал для чтения то палеографических ксероксов, то латинских текстов, а то и просто, откидывался в уголке огромной аудитории с томиком Гомера. Порой случались и казусы. Как-то Адриан спокойно дремал под журчащую речь толстой преподавательницы диамата. — Все составные части материального мира имеют историю своего развития, в ходе которого совершился переход от неорганической к органической материи и, наконец, к человеку. С возникновением человеческого общества возникает новая форма движения материи, носителем которой является человек, обладающий сознанием и самосознанием… Адриан вынул из сумки только что взятую в библиотеке «Историю Тома Джонса» Филдинга, полистал, прикидывая, сможет ли прочесть её за ночь? — …Сознание неотделимо от материи. Оно есть функция мозга, отражение объективного мира. Предметы, их свойства и отношения, будучи отражёнными в мозгу, существуют в нём в форме образов — идеально. Идеальное же — это не особая субстанция, а продукт деятельности мозга, субъективный образ объективного мира… Боже, как всё надоело… Он снова взглянул на Филдинга. Пожалуй, за ночь можно успеть. По романо-германской литературе надо ещё прочесть Стерна, а его не было на абонементе. У кого-то на руках. Адриан, отвлёкшись, вдруг услышал, как к нему обращаются с вопросом, начало которого он пропустил. Он растерянно приподнялся. — …Человек — существо, принадлежащее двум мирам — миру природной необходимости и нравственной свободы, его органы чувств и телесная организация, в отличие от животных, не специализированы, что составляет источник его специфического преимущества: он сам должен формировать себя. Он — субъект духовной деятельности, создающий мир культуры, носитель всеобщего идеального начала — духа, разума… — сообщила толстуха. Парфианов внимательно выслушал это суждение. Кивнул. Да, безусловно. — Что — безусловно? Что мы, марксисты, отвечаем на эти идеалистические бредни? Адриан растерялся. А что, чёрт возьми, на это можно ответить? Преподавательница раздражённо покосилась на него. — Прежде, чем быть носителем всеобщего идеального начала, человек должен есть, пить и одеваться! Вот что мы отвечаем на это! Материальное первично! А вы, молодой человек, идеалист, — произнесла она так, словно поймала его на воровстве кошелька из её сумочки. Парфианов покаянно повесил голову, горестно разведя руками, словно сожалея о своей недогадливости и глупой идеалистичности, и тем смягчил её. Артистизм частенько выручал Книжника, хоть сам он никогда не признал бы этого. Опустившись на скамью с каменным лицом, тоскливо подумал: «Боже, какая пошлость…» Именно в тот вечер Шелонский, готовясь к зачёту, исчёркав половину общей тетради формулами, робко попросил Парфианова законспектировать «Материализм и эмпириокритицизм» — сам он не успевает. Парфианова неприятно задела именно робость его просьбы, в конце концов, Шелонский ничем ему обязан не был. Книжник с готовностью согласился и направился в библиотеку. Заняв привычное место у окна, раскрыл нужный том, углубился в чтение. Но, как оказалось, думал совсем о другом. В голове мелькали фразы из недавно прочтённого Артюра Рэмбо, и они отвлекли его от книги. Парфианов снова углубился в страницу, и вдруг поймал себя на странном, незнакомом ранее ощущении: его, Книжника, всегда погружавшегося в любой текст, как свинец на морское дно, эти строки выбрасывал, словно толща воды — бутылочную пробку. Что за чёрт? Книжник впервые читал Ленина, до того как-то не приходилось. Но что происходит? Адриан вчитался в третий раз и неожиданно для самого себя безапелляционно оценил прочитанное. «Да это же галиматья!» Он сказал это вслух, и слова эти не были демаршем. Просто вырвались. Несколько студентов в зале обернулись на него. Адриан вздрогнул. «Идиот»- столь же категорично определил и самого себя. Прикрыл книгу руками: могли узнать переплёт. Несколько минут сидел молча, опустив голову. Потом, чуть успокоившись, задумался. Человек, написавший текст «Материализма и эмпириокритицизма», мог быть кем угодно — расчётливым хладнокровным мерзавцем, политическим честолюбцем, или просто не шибко умненьким дурачком, одержимым сверхидеей, но… разве это может быть? Обозначить вслух, что основатель твоего государства городит галиматью — было чревато опасностью с треском вылететь из университета. Парфианов же университет любил, и вылетать из него не хотел. Но не ошибся ли он? Заглянул в тест снова. Нет. Это была галиматья, никаких сомнений. За эти годы он прочёл тонны философских трудов, и ему было с чем сравнить тезисы и аргументацию. Адриан осторожно поднялся, аккуратно поставил первоисточник на место и, взяв с полки том БСЭ, методично законспектировал в тетрадь Шелонского нужную статью энциклопедии, где упомянутая выше галиматья была не просто мудро растолкована, но и обогащена смыслом, как понял теперь Парфианов, ей вовсе несвойственным. Надо сказать, что на курсе Книжника бытовала какая-то странная девственность политического мышления, точнее сказать — стыдливое целомудрие, проявляющееся в крайней табуированности темы строительства коммунизма, — при полном отсутствии интереса к ней. Спросить сокурсника: «Ты веришь в коммунизм?» было столь же немыслимо, как поделиться с деканом подробностями вчерашней попойки. Это целомудрие было свойственно и Адриану, никогда не задумывавшемуся о вопросах идеологии страны, в которой он жил. Он превращался в диссиденствующего неврастеника, только когда сталкивался с фактом невозможности получить желаемую книгу. Тут уж он ни в чём себе не отказывал, высказываясь порой многоэтажно, ибо только глупцы полагают, что просвещение облагораживает душу. Чем лучше образование, тем утончённее хамство, да богаче словарный запас, только и всего. «Почему я должен читать Бердяева в самиздате, чёрт возьми!?» — шипел Адриан в таких случаях, как растревоженная гадюка. «Почему последнее издание Ницше датируется пятнадцатым годом? Что за страна! Выродки! Где достать Гюисманса? Почему не публикуют д’Аннунцио? Будь всё проклято! Почему нигде не найти Шестова? Тоже мне — идеологи! Дай волю этим дебилам — они и Достоевского цензурировать будут!» Но всё остальное? Адриан даже не знал, чем отличается партком от крайисполкома, как, впрочем, и многие его ровесники. Потеря непорочности духа была драматичной. Он вспомнил, что идеолог их группы Катька Бадягина, которую он едва замечал, внучка какого-то революционера-чекиста, чьим именем была названа одна из школ города, была единственной на факультете — помешанной на комсомольской работе и верящей в коммунизм. Сокурсники, если уж речь заходила о ней, всегда спорили, дура ли Бадягина или хитрая карьеристка? Ничего третьего даже не предполагалось. Да, только дурак или карьерист мог в глазах сверстников Парфианова служить табуированной идее. И всё же неожиданное понимание, что не опошление в поколениях, а изначальная пошлость может лежать в основании целого государства, болезненно шокировало Книжника. Вернувшись в общагу, Адриан протянул конспект Шелонскому. Долго молчал, наконец, поделился последним впечатлением. Замечал ли Веня, что писания Ленина чудовищно глупы и пошлы донельзя? Вениамин выслушал с удивлением. Он столь же мало, как и Адриан, задумывался о вышепоименованных материях, бездумно переписывал лекции и был озабочен совсем иными вопросами. Мысль о том, что самое цитируемое лицо страны, по определению Парфианова, «или дурак, или сукин сын», ему в голову никогда не приходила. Но и, рассмотрев её с подачи Книжника, Вениамин не проявил видимой заинтересованности. Какая разница, в конце-то концов, был ли тщательно сохраняемый в Мавзолее труп умным и порядочным при жизни? Но, внимательно вглядевшись в тёмные глаза Адриана и его насупленные брови, Вениамин понял, что тот и впрямь считает это значимым. И то, что подобное могло занимать Парфианова, удивило Шелонского по-настоящему: Веня был далёк от того, чтобы считать Книжника глупцом, но разве умных людей волнует подобная чепуха?Глава 3
Вопрос о том, что может волновать умных людей, сложен и неоднозначен. Возможно, самым верным ответом на него будет утверждение, что умные люди потому и умны, что предпочитают вовсе не волноваться. Что ж, возможно и так, но тем труднее будет объяснить некоторые вещи, кои уже настоятельно требуют объяснения. Если в двадцать три года нашего героя не слишком волнуют женщины и не очень-то беспокоят деньги, иначе бы он выбрал иное, не столь бесприбыльное занятие, если он склонен рыться в старых пыльных книжных развалах и безразличен к карьере — что же волнует Книжника, чего он ищет, листая пожелтевшие страницы полуистлевших инкунабул? Объяснить это трудно, но придётся. Дело в том, что Книжник искал… Истину. Адриан не мог вспомнить, когда мысль о необходимости найти её впервые овладела его умом, но довольно рано из обилия первоначальных впечатлений он вынес некую смутно ощущаемую неудовлетворённость. Его считали странным ребёнком, ибо он никогда не мог дать ответ на вопрос, понравилась ли ему прочитанная книга, находит ли он интересным тот или иной фильм, что думает о том или ином человеке? Адриан понимал, о чём его спрашивают, но не мог понять, почему нечто должно нравиться или не нравиться ему? И — чем? На него смотрели с недоумением. С головой, что ли, не то что-то? Впрочем, присущие Адриану с детства бесспорные математические способности и умение превосходно излагать прочитанное не давали оснований для серьёзного беспокойства. Перерастёт. В это время его родители развелись, сестра пожелала жить с матерью, Адриан, двенадцатилетний — с отцом. Он никогда не сожалел о своём выборе, избавившись от навязчивой материнской опеки и вечных родительских скандалов. У них с отцом была возможность не мешать друг другу, но Арнольд Михайлович изредка всё же задавал сыну несколько деликатных вопросов. Получал спокойные и вежливые ответы. Слишком спокойные и вежливые, чтобы быть искренними. Отец понимал это, но предпочитал «не лезть мальчику в душу» и, пожалуй, действовал правильно. Неоднократно замечая на столе сына книги со страннейшими названиями, изумлялся, но опять-таки не настолько, чтобы всерьёз обеспокоиться. Но однажды Арнольд Михайлович был действительно удивлён, увидев сына в слезах над книгой. Адриан вытирал кулаком глаза, но слёзы то и дело выступали снова. Парфианов-старший тихо подошёл, обнял своего мальчика, и спросил, что тот читает, почти уверенный в том, что в руках у него том Диккенса. Он помнил, что когда-то и сам горевал над «Оливером Твистом». Но тёмно-коричневая книга в руках Адриана носила более чем странное название: «Методом убеждения», и, на взгляд отца, просто не могла содержать ничего, способного разжалобить. Однако Адриан вовсе и не был разжалоблен, он плакал от обиды и потрясения. Ему в душу давно запали странные и нездешние слова, невесть где прочитанные, запали так, что он сначала записал их в подаренную отцом общую тетрадь с видом Эйфелевой башни, а потом просто запомнил почти наизусть: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветёт миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его…» В нём замерла от восторга душа. Эти малопонятные, но возвышенные и страшные слова так контрастировали с привычной ему обыденностью, с матерными криками под окнами, пьяной руганью соседей, со скучными школьными книгами! А теперь он прочёл, как люди смеялись над этим, и говорили, что никакого Бога нет, и это всё вздор. Как же так? Слова «пошлость» он тогда ещё не знал, и определил прочитанное словом, которое слышал в начальной школе — «безобразие». Ему лгали! Лгали буквы и строки, кривлялись параграфы, над ним хихикали главы и издевались страницы. Книги могут лгать! И от этого-то понимания в нём впервые перевернулась душа, и хлынули слёзы. …Мутный поток чувственности, забурливший в нём в эти годы, и любопытство к вещам запретным отвлекли от книг. Но первая и единственная в его жизни испробованная наркота породила страшное ощущение отсутствия себя, с которым он, ещё не вполне осознававший себя подросток, смириться не смог ни на минуту, а первый постельный опыт привёл к недоумению: «И это всё?» Впрочем, большого разочарования Адриан не испытал, ибо в это же время наконец понял, что надо искать. В тот день Адриан сидел на скучном уроке обществоведения, под диктовку учителя вписывая в тетрадь категории идеального и материального, единичного и множественного, количественного и качественного, абсолютного и относительного. Неожиданно поднял руку и спросил, задумчиво и серьёзно: — А как соотносятся эти парные категории между собой, и — соотносятся ли вообще? Парфианов не был, по мнению учителя, одним из тех хамоватых дурачков, что вечно норовят идиотскими вопросами затянуть урок, и он, внимательно глядя в почти чёрные глаза ученика, ответил, что в принципе, да, соотносятся, ведь это бытийные категории, а бытие нерасчленимо. — Стало быть, абсолютное должно быть единичным, качественным, и… материальным или идеальным? — Идеальным, — ответил учитель и бросил на него исподлобья недоброжелательный взгляд, в котором промелькнуло неприязненное беспокойство. Парфианов заметил, что начинает раздражать педагога, но позволил себе задать ещё один короткий вопрос, всем видом показывая, что он-то уж будет последним. — А что такое абсолютное, если его определить… ну, попроще? Учитель, уняв грозным жестом начавший было шуметь класс, быстро и нервно ответил: «Это — истина» — и торопливо отойдя от его стола, продолжил диктовать. Парфианов уже где-то слышал пилатовский вопрос, и теперь задумался над ним основательно. Что такое Истина, чёрт возьми? Ему казалось, что без понимания этого невозможно, прежде всего, думать, но, вдумавшись, понял, что без этого он не сможет и жить. Если не понять, что такое истина, как понять, что — неистинно? Как вообще без этого можно что-то понять? Чтобы сдвинуть мир, нужна точка опоры, чтобы начать правильно мыслить, нужен критерий истинности. Ну, и отчего оттолкнуться? Что в его жизни Абсолютно, Идеально, Единично, Качественно, сиречь — Истинно? А ничего. Совсем ничего. Трескотня какая-то и больше ничего. Значит, надо найти её, эту Истину. Абсолютную, Идеальную, Единичную, Качественную. Это было уже кое-что. Предмет его поисков должен быть лишён относительности, быть единственным, он не должен меняться и искажаться. И что это? Теперь Адриан читал книги другими глазами, и каждый фолиант мысленно оценивал только на предмет содержания в нём Истины. Книги стали опадать, как листья по осени. Но больше всего его поражали всё же не книги, но люди: никого из них этот вопрос, казалось, вообще не волновал. Адриан так и не нашёл собеседника, — ни в отце, ни в приятелях. От него либо отмахивались, пожимая плечами, либо вертели пальцем около виска, либо шарахались. Впрочем, однажды Адриан натолкнулся на того, кто ставил перед собой тот же вопрос, что и он — во всей его детской непосредственности и пугающей полноте. При разводе мать из общей семейной библиотеки забрала собрания сочинений Чехова и Тургенева, а отцу достались Толстой, Достоевский и ветхий Ницше, 1915 года издания, с ятями. Проглядывая коричневые томики яснополянского старца, Адриан натолкнулся на толстовскую «Исповедь». Случайно ли книга раскрылась на сакральной для него фразе или был в этом некий тайный промысел? «…я жил, но потом со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом? Сначала мне казалось, что это так — бесцельные, неуместные вопросы. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и в том, что не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица». Распахнув страницу на последней фразе, Адриан вернулся к началу и стал читать, заворожённо водя пальцем по строке и затаив дыхание. «И это сделалось со мной в то время, когда мне не было пятидесяти лет…» Адриан слегка изумился — пятьдесят лет в его семнадцать казались датой запредельной. Почему же его самого это же мучило, сколько он себя помнил, лет с двенадцати? «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Адриан почти не дышал. Он пришёл почти к тем же выводам, разве что не формулировал свою убеждённость как конечную. Далее Толстой писал, что видит четыре исхода: выход неведения, то есть не знать, что жизнь есть зло и бессмыслица, второй — эпикурейства, чтобы зная безнадёжность жизни, пользоваться ее благами. Третий выход силы и энергии: поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить её, а четвёртый состоял в том, чтобы продолжать тянуть жизнь, зная, что из неё выйти не может. Адриан поморщился — он был молод и не был пессимистом. Он не хотел умирать и хотел найти Истину. Но дальше Толстой говорил, что вгляделся в жизнь народа и увидел понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать. И все они жили и умирали, видя в этом не суету, а добро. И он понял, что смысл есть истина, и принял его. Чёрт возьми, растерялся Книжник. О чём это он? Народ в понимании Парфианова был соседями за стенкой, чьи пьяные дебоши так утомляли его, всеми теми, с кем поговорить о смысле жизни и Истине было невозможно. «Где кончается уединение, там начинается базар, и где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов, и жужжание ядовитых мух…» Он запомнил эти ницшеанские строки, как и строки Писания о каперсе и кузнечиках, — они отвечали чему-то сокровенному в нём. Адриан продолжал листать страницы. Толстой же закончил тем, что его вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, — был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только к нему, он отнёс к жизни вообще. Он понял истину, впоследствии найденную в Евангелии, что «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо потому делающий худые дела, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его». Адриан взял ручку и записал в свою тетрадь евангельскую цитату. У него был уже солидный список этих цитат — найденных по книгам, романам, порой — сноскам в том или ином издании. Он позавидовал Толстому — подумать только — «нашёл в Евангелии»! А вот теперь, — пойди, найди Евангелие. Адриан очень хотел прочесть эту книгу — но обрести её было столь же просто, как найти посреди Аравийской пустыни — ледяное шампанское. Окончание толстовских рассуждений и вовсе разочаровало его. «Весь народ, писал Толстой, имел знание истины, это знание истины уже мне было доступно, я чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в так называемом священном предании и писании». Адриан тупо смотрел на страницу. Церковь? Исказила Истину? Но ведь никакой церкви в их жизни и нет! И Истины тоже. Что, Истину упразднили вместе с церковью? Тогда она точно там, но… как же это? Что до Писания — дайте-ка сначала почитать. Но, увы. Евангельские и библейские фразы приходилось собирать по строчке. Всё это разочаровало и, в общем-то, ни в чём не убедило Адриана. И прежде всего — он это понял — неубедителен был сам патриарх литературы. Раздражали мелькавшие то и дело фразы «Ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой и мною…», «нам с Соломоном…» Добро бы, это о тебе сказал я, но самому о себе… как-то… не надо бы. Самоирония? Но Толстой казался серьёзным. Однако у Толстого хотя бы вопросы, интересовавшие Книжника, были поставлены, и теперь Адриан окончательно понял, что его собственные поиски — не бред сумасшедшего. Толстой тоже искал, а его психом никто не называл. Надо при этом заметить, что в Адриане всегда была эта неосознаваемая им кротость — не то, чтобы склонность не соизмерять себя с окружающими, но скорее — умение не думать о себе. Он себя никогда не интересовал и не анализировал, его интересовала Истина. Отвергнув Толстого, Книжник погрузился в Достоевского — и тут нашёл собеседника на годы. В основном, читал «Бесов» и «Братьев Карамазовых» — читая и перечитывая, упиваясь и хихикая. Адриан понял из двух романов Достоевского больше, чем из всего Толстого. Понял и ответ Достоевского на свой вопрос. Неочевидно поставленный, он и проступал неочевидно, называя Истину — Христом. Адриан вздыхал. Понимания не было. Собеседников не было. Истины не было. Впрочем, однажды, после двух потерянных армейских лет, уже в университете, у него состоялся любопытный разговор с Полторацким. Михаил, отнюдь не отличавшийся глубокомыслием, с изумлением поглядев на «Феноменологию духа» и «Критику чистого разума» на постели Парфианова и с опаской отодвинув книги от себя, осторожно спросил, зачем Адриан читает подобное? Парфианов спокойно ответил, что ищет Истину. Губы Полторацкого раздвинулись в какую-то судорожную полуулыбку-полугримасу, он почесал бровь и сказал, что глупо искать истину в книгах. Адриан неожиданно поддержал разговор, с несвойственной ему обычно живостью спросив, где бы её искал сам Полторацкий, уж, не in vino ли, по его мнению, veritas? Не что чтобы Парфианов намекал на склонность Мишеля к обильным возлияниям, тот это видел, просто интересовался. — Нет, — ответил Полторацкий, — я думаю, истина — в любви. Лицо Парфианова перекосилось. «Тёмный чулан с пауками…» Шелонский, который стал прислушиваться к разговору, изумился. — Причём тут чулан? — Если Истина пребывает в столь знаменательной точке, как задница вашей Ванды, что же это за Истина? Нет, господа, книжные анналы могут и не содержать Истины, с этим я согласен, мало ли мне попадалось лживых книг, но в анальном отверстии мадемуазель Керес Истины быть не может по определению. Не пытайтесь переубедить меня. Никто и не пытался. Полторацкий молчал. Шелонский тоже. На том их дебаты об Истине и закончились. Адриан был не впечатлителен, но — восприимчив. Поначалу он проникался чужеродной мыслью книги как собственной, ловил себя на странных аллюзиях и литературных параллелях. Вчитываясь в гётевские строки, изобличал себя на помыслах инфернальных, качаясь на мерных гомеровских гекзаметрах, обретал непередаваемое словесно гармоничное спокойствие духа, однажды, пролистав нечто бредовое из Беккета, целый час не мог обрести своей привычной манеры мыслить, а прочтя несколько мерзейших строк из Бодлера, ощутил такой пароксизм чувственности, что от жажды женщины свело зубы. Но постепенно это прошло. Адриан научился отстраняться от прочитанного и критически разлагать его на составляющие. Книжник ещё на первом курсе изумил преподавателя спецкурса по стихосложению, когда моментально, с невероятной быстротой и пониманием усвоил метрику и тонику стихов, безошибочно, на слух определял размер любой строки, демонстрируя своеобразное «бельканто», но когда его попросили прочесть его собственные стихи — растерялся. Их не было. Точнее, в школьные годы он набросал пару коротеньких поэм — шутки над приятелями, изобилующие малоприемлемой лексикой, но их Адриан давно выбросил, а «просто стихов» никогда не писал. Теперь, видя изумление преподавателя, задумался, и с тех пор начал иногда набрасывать нечто — вначале носившее не столько поэтический, сколько метрический характер. Адриан слагал, методично подсчитывая слоги, оды алкеевой строфой, писал александрийским стихом записки приятелю Алёшке Насонову, единственному, в ком он обрёл подобие понимания, а, узнав, что в российской поэзии не употребляются пеоны, кроме третьего, сочинил рондо вторым пеоном. Знай наших! Но постепенно стал писать без изысков и причуд, спокойно и выверено, зарифмовывая уже свои ощущения, хотя поэзия всерьёз его всё равно не занимала. Вскоре Адриан начал заниматься переводами — увлекала возможность сопоставить слова и умолчание разных языков, он любил уподобление и истолкование, иносказание и сравнение, сближение разноликих языковых смыслов. Он рифмовал молчание и ночь, дрожание волн морских лагун Готье и трепет любовниц Гейне, искал созвучия скрипов пьяного корабля Рембо и заблудившихся трамваев Гумилёва. Всё с чем-то смыкалось, отзывалось в чём-то, заигрывало, кривлялось, кокетничало. Книжника это забавляло. Единственным слушателем стихов Адриана был его дружок, сокурсник Алёшка Насонов. Но у самого Насонова при этом были и иные друзья на факультете — курсом старше, с которыми тот познакомился на одной из бесчисленных научных конференций. Сердце Адриана сжимало странной тоской, когда приходили умный Григорий Габрилович с высокой и стройной красоткой Анькой Афанасьевой и их приятель Марк Штейн. Они забирали Насонова на свои философские посиделки, но Адриана ни разу с собой не пригласили. Между тем, жизнь продолжалась. В тот исторический день марта 1985-го года, день перелома времён, чьё значение обозначилось много позже, Парфианов застал своих соседей по комнате с местной газетёнкой в руках. Так как до этого уже пару дней по эфиру неслась классическая музыка в миноре, все понимали, что вероятно, со здоровьем у очередного престарелого вождя совсем плохо. Может быть даже, как говорилось в известном еврейском анекдоте, «ему хуже всех»… Да, так и оказалось. Вождь скончался, а в газетке Шелонский обнаружил трогательное стихотворение какого-то старичка-ветерана, начинавшееся словами: «Что-то часто шумят гудки, провожая вождей в могилы…», которое в данный момент и читал вслух — с непередаваемым выражением на лице — Полторацкому. Парфианов с минуту прислушался к немудрённым мыслям кривоватого анапестированного дольника, потом зевнул и осторожно пощупал карманы в поисках сигарет. Он втайне от дружков завёл необременительный романчик с девицей, работавшей в спецхране библиотеки. Сейчас воровато вытащил из-под куртки прошитые пожелтевшие листы с чернильной надпечаткой «не выдавать», сунул их под подушку, но не спешил углубляться в чтение. Слушал Шелонского. Когда тот закончил, Полторацкий вяло поинтересовался у обоих, кто, по их мнению, будет следующим генсеком? Парфианов и Шелонский, не сговариваясь, ответили — единственный раз в жизни — в унисон: «А х… его знает…» …Надо заметить, что Парфианов как-то просмотрел начало политических пертурбаций середины восьмидесятых. Не до них было. Он обнаружил в спецхране залежи журналов 60-х годов и читал их с неподдельным интересом. Вернулся к реальности в мае, вник в происходящее и здесь-то и уронил изумившее дружков предсказание. — Если они не прекратят это немедленно, — проговорил он, вдумавшись в их разговоры об апрельском пленуме, — нынешнее поколение советских людей жить будет при капитализме. На него посмотрели с изумлением, но спорить не стали. С ним, повторимся, давно уже никто не спорил.Глава 4
Да и как было спорить, когда изощрённая софистика Парфианова без труда разбивала самую очевидную правоту? Сам Адриан, однако, полагал, что глупо искать у дружков понимания — слишком много к этому времени он понимал сам. Если заработок человека обеспечен тем, чего он не понимает, то разбей ему голову, — он все равно не захочет ничего понимать. В равной степени Книжник понял, что степень понимания зависит вовсе не от ума. На курсе были весьма неглупые люди — но, хоть они слушали его внимательно, он видел, что его искренне считали странным. В те годы на факультете существовало небольшое общество ценителей литературы, собиравшееся на квартире у фотографа средних лет Валерия Райхмана, в свою очередь, большого ценителя мужской красоты. Но сам Райхман был и любителем пёстрых компаний, обожал слушать умные речи заумных филологов, ему нравились молодёжные сборища у него на дому. Парфианов бывал там неоднократно, как ни странно, пользовался всеобщим уважением и авторитет имел запредельный. Книжник с изумлением узнал однажды от Райхмана, что в компании все осведомлены о его садистском демарше на Турмалине, и именно это-то происшествие и вызывало такой пиетет. Этот же эпизод был, видимо, и причиной того, что сам Райхман никогда ни с какими с предложениями к нему не обращался, хоть порой просто пожирал глазами и часто фотографировал. Ценители литературы после этого сообщения сильно упали в глазах Парфианова, но райхманова квартира была возможностью хоть немного отдохнуть от осточертевшей общаги, да и возможность пусть и эрзац-общения — Адриан ценил. Именно там он сошёлся с Алёшкой Насоновым — чуть полноватым близоруким увальнем, чем-то похожим на Пьера Безухова, и Танюшей Стадниковой, неглупой девицей, чья ригористичность, хоть по временам и заставляла его морщиться, но сильно не раздражала. Царицей же филологических балов была Светлана Крапивина, невысокого роста, с крашенной львиной гривой и симпатичной мордашкой. ...Все права на текст принадлежат автору: Ольга Николаевна Михайлова.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Скачать или читать эту книгу на КулЛиб
Скачать или читать эту книгу на КулЛиб