Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
Дэвид Арнольд Очень странные увлечения Ноя Гипнотика
This edition published by arrangement with Writers House LLC and Synopsis Literary Agency The Strange Fascinations of Noah Hypnotik Copyright © David Arnold, 2018© Буров А., перевод на русский язык, 2020 © Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2020
* * *

Маме и папе за помощь в лабиринте
Внимание картинки

Ной – отличный парень. Это понятно по тому, что в его комнате всегда порядок и система, он читает классные книжки и слушает классную музыку. Ной любит писать, делает это с за-видным постоянством и снабжает записи своими «диаграммами» – рисунками, точно отражающими ход его мыслей. А еще Ной не может понять, где находится, и почему вокруг всё так странно. Рисунки помогают ему передать момент и раскрыться читателю (чуточку, на самую малость). И мне было супер интересно побыть кем-то другим – Ноем, в данном случае (хотя меня это беспокоило куда как меньше, чем его. Я тоже люблю порядок, книжки и классную музыку. И рисовать всякое). Ной совсем не художник, но его рисунки отражают его характер. Они аккуратны и педантичны, как и всё его окружение. У него внезапно не самый аккуратный мальчишеский почерк – и мне бы хотелось это ухватить тоже, но мои слишком круглые «о» явно меня выдали. Приходилось стирать и снова писать, стирать и снова писать, чтобы быть больше Ноем, чем собой. Это оказалось сложно – вот так вот взять и нарисовать хуже, чем умеешь. Но при этом всё ещё хорошо. Иногда побыть кем-то другим жизненно важно.

Больше всего люблю прическу Пенни – ввввууущ! Сколько волос!
Ю. Широнина
Это часть первая
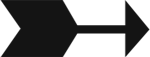
Мало вложить себя в творчество – я должна умереть за него. Только так я пойму, что оно чего-то стоит.Мила ГенриВыдержка из интервью The Portland Press Herald, 1959

1. печаль сгущается под водой

Сейчас я вдохну поглубже и расскажу вам, о чем речь: впервые я обнаружил исчезающую женщину два месяца и два дня назад, когда лето уже начало повсюду расточать свои слащавые солнечные улыбки. Я был с Аланом, как обычно. Мы провалились в кроличью нору Ютуба, что с нами время от времени случается. Вообще говоря, я терпеть не могу Ютуб, главным образом потому, что Алан вечно такой: «Я просто обязан показать тебе эту штуку», но одна «штука» неизбежно превращается в семнадцать, и вот я уже смотрю, как морская выдра добывает вкусняшку из торгового автомата, а сам думаю: «Где, блин, я промахнулся?» Поймите: я не чужд подобных развлечений, но в определенный момент человеку стоит всерьез задуматься над своим жизненным выбором, если тот привел его на диван – глазеть, как дрессированная зверушка нажимает на кнопочку, чтобы получить пакетик чипсов. Спокойно и немного печально, но без пафоса я скольжу через воды бассейна семейства Роса-Хаас. Кайф. Я бы остался здесь навсегда. Для ясности: видео исчезающей женщины, составленное из сменяющих друг друга фотоснимков, длится чуть больше двенадцати минут. Оно называется «Одно лицо, сорок лет. Исследование процесса старения», а в инфе написано: «Ежедневные автопортреты с 1977-го по 2015-й. Я устала». (Мне особенно нравится последняя ремарка: исчезающая женщина как будто решила объяснить, почему не выдержала обещанные сорок лет.) В начале ей где-то двадцать с небольшим, светлые волосы длинные и пышные, взгляд лучится, как утреннее солнце сквозь водопад. Примерно к середине ролика помещение меняется – могу только предположить, что она переехала, – но вещи на заднем фоне те же самые: акварельный горный пейзаж в рамке, фарфоровый Чубакка и всюду слоники. Фигурки, постеры, футболки – у нее прямо-таки мания слоников, точно говорю. Она всегда в помещении, всегда одна и, не считая переезда и вариаций прически, выглядит одинаково на каждом снимке: не улыбаясь, смотрит прямо в камеру – каждый день все сорок лет. Каждый божий день одно и то же – и вдруг перемены. Ладно, пора перевести дыхание.

Обожаю этот момент: разбиваешь поверхность воды, вдох, мокрые волосы на жарком солнце. Алан сразу: – Чувак! Сейчас, если честно, я бы предпочел одиночество. – Это, типа, рекорд, – говорит Вэл. – Ты как там? Еще несколько глубоких вдохов, быстренько улыбнуться, и… Следующий момент я люблю еще больше – когда снова ныряешь. Под водой все чувства как бы обостряются – наверное, из-за тишины и невесомости. Вот что на самом деле нравится мне в плавании.

Первые кадры отсканированы с поляроидных снимков, но с течением времени разрешение фотографий увеличивается, а внутренний свет исчезающей женщины начинает убывать: потихоньку редеют волосы, потихоньку тускнеет взгляд, потихоньку усыхает лицо, обвисает кожа, сияющий юный водопад становится вялым ручейком – еще одна жертва в мутном болоте старости. И мне не столько грустно, сколько тоскливо, будто следишь, как тонет камень, которому не суждено достичь дна. Каждый день все сорок лет. Я посмотрел это видео уже больше сотни раз: вечером перед сном, утром перед школой, в библиотеке во время обеда, на телефоне посреди урока, мысленно в промежутках, – я прокручиваю в голове исчезающую женщину, как навязчивую песенку, снова и снова, и после каждого просмотра клянусь, что больше не вернусь к ней. Но, как неисправимый человек-бумеранг, всегда возвращаюсь. Двенадцать минут на экране умирает человек. Здесь нет насилия, нет ничего аморального или постыдного, с ней не происходит ничего такого, чего со временем не случится со всеми нами. Ролик называется «Исследование процесса старения», но это обманка. Женщина не стареет, она исчезает на глазах. Я смотрю и не могу оторваться. А вот и неизбежный толчок в плечо. Пора вернуться в мир дыхания.
2. хрупкий треугольник

– Ну блин, Ной! Ты, что ли, утопиться пытаешься? – Вэл на надувном матрасе посреди бассейна потягивает нечто вроде дайкири домашнего приготовления; на лице огромные темные очки. – Реально, – говорит Алан, закидывая в рот пригоршню карамельного попкорна. Он не расстается с этим жестяным ведерком (на котором картинка – резвящиеся в заснеженном лесу олени) с самого обеда. – Треугольник у нас очень хрупкий, йо. Если ты утонешь, вся система полетит к чертям. Валерия и Алан Роса-Хаас – близнецы. Их дом в двух шагах от нашего, к тому же у них есть замечательный бассейн, а мистер и миссис Роса-Хаас редко бывают дома, так что сами понимаете. С Аланом я познакомился сразу же после нашего переезда в Айвертон. Ему, как и мне, было двенадцать лет, он пришел к нам в гости, играл у меня в комнате и вдруг сообщил, что считает себя геем, ну и я такой: «Э-э… ну ладно», а он: «Ну, типа, вот…» – короче, полный дурдом. Потом он велел мне никому не рассказывать, и я пообещал, что не буду. А он говорит: «Если проболтаешься, я твоего хомяка обоссу». В то время у меня жил ревматичный хомяк по кличке Голиаф, и мне, конечно, не улыбалось, чтобы на него мочился какой-то левый чувак, поэтому я поклялся Алану, что буду держать рот на замке. Позже я узнал, что стал первым, кому Алан открылся, хотя в двенадцатилетнем возрасте я и понятия не имел, насколько это важный шаг. Тогда я думал только о том, что моему хомяку грозит опасность. Я даже спросил Алана, почему нельзя никому рассказывать, и он заявил, что я все равно не пойму. Через пару лет он совершил настоящий каминг-аут, и ребята обзывали его ужасными словами, отскакивали на километр, сталкиваясь с ним в коридорах, садились подальше от него в столовке – не все, но очень многие, – и вот тут я понял, до чего он был прав. – Я не собирался тебе говорить, – признался он мне тогда, в двенадцать лет. По словам Алана, его прямо-таки распирало изнутри, как бутылку кока-колы, если ее хорошенько взболтать, и я просто оказался рядом, когда сорвало пробку. А я заверил, что меня его ориентация не смущает. По крайней мере, пока он не трогает Голиафа. Мы заключили соглашение. И потом вместе отлили из окна на улицу. А на самом деле я полюбил Алана с самого момента знакомства. И он меня тоже очень полюбил. Будучи помладше, мы частенько обсуждали, как все обернулось бы, окажись я тоже геем, на что он вечно замечал: «Вряд ли я на тебя запал бы, Оукмен», и тут я обычно демонстрировал крепнущий бицепс, поднимал одну бровь и медленно качал головой, будто говоря: «Как против такого устоять?», и мы хохотали, воображая, будто так оно и есть. Представляли, как поженимся, купим хижину где-нибудь в горах и станем коротать дни за плетением корзин, приготовлением еды в чугунных котелках и беседами о разных глубоких вещах. Но это было давным-давно. – Кстати, кто нам это принес? – интересуется Алан, примостившись на трамплине и болтая над водой сморщенными от влаги пятками. – Кто принес нам что? – переспрашивает Вэл. – Да вот эту дрянь. – Он поднимает над головой уже пустое ведерко. – Вообще-то, ты только что занимался любовью с этим попкорном, – говорит Вэл, – а теперь, когда дело сделано, оскорбляешь его? – Он не о том, – поясняю я, бултыхаясь у края бассейна. – Именно. Никто не покупает такие вещи для себя, – говорит Алан. – Это явный подарок для галочки, абы что. При нем должна быть открытка со словами: «Вы для нас пустое место». Вэл сразу возражает: – Знаешь, по-моему, обычный жест вежливости, но я непременно выскажу твое неудовольствие Лавлокам, когда снова их увижу. – Постой-ка, ты про тех самых Лавлоков? С Пидмонт-драйв? – Они заходили на ужин вчера вечером. Ты был на практике. Алан кидает пустое ведерко в бассейн и ныряет следом с воплем «Будьте прокляты, Лавлоки!». Вэл закатывает глаза, потом откидывается обратно на матрас. В отличие от Алана – неизменно бледного, поскольку он унаследовал от отца так называемую «расцветку Хаасов», – Вэл первая из нас покрывается загаром. В детстве я ее считал всего лишь надоедливой сестрицей лучшего друга, раздражающим фактором, наподобие жужжания назойливой мошки. А потом настало лето перед старшими классами, и однажды она открывает мне дверь, а я вдруг начинаю мямлить: «Э-э… привет, Вэл… ну, как бы… э-э…» – разбитый наголову внезапной мыслю, что секс, возможно, не такая уж и гадость. Как обухом по башке, вот ей-богу. Не знаю, шла ли трансформация постепенно, исподволь, прямо у меня под носом, или же все переменилось за одну ночь, но неожиданно присутствие Вэл перестало казаться мне утомительным. В том году я пригласил ее на школьный бал, и она сказала «да», и было немножко неловко, ведь мы знали друг друга тысячу лет, но я не сомневался, что надо хотя бы попробовать. Мы и попробовали. И вот что получилось: мы держались за руки в коридоре целых две минуты, пока Алан нас не заметил; решив, что это шутка, он хохотал до колик, но потом сообразил, что никакая не шутка, и совсем слетел с катушек. Тогда мы последний раз держались за руки, и тогда же Алан первый раз обозначил нашу троицу как «хрупкий треугольник». И все-таки, не стану врать, я и раньше думал о Вэл в этом смысле. У нее есть своё особое обаяние: она умная, но без высокомерия и к тому же умеет ненавязчиво пошутить. Просто отпускает при случае уморительные фразочки, будто себе под нос, ни для кого конкретно, и тебе остается только радоваться, что повезло оказаться с ней рядом. Опять же, у нее идеальная грудь. Алан переплывает бассейн на спине. Он явно прибавил в скорости, и я почти готов похвалить его вслух, но знаю, что услышу в ответ: «Тебя не хватает в команде, Но. Ты нам нужен, Но. Как спина, Но? Все нормально, Но?» – Все нормально, Но? – ни с того ни с сего спрашивает Вэл. Надо полагать, побочный эффект треугольника, почти телепатия. – Ага, – отвечаю я, – думаю, уже поправляюсь. Она сдвигает огромные солнечные очки на лоб: – Чего? Тьфу ты! – Извини, – говорю я. – Решил, ты про спину спрашиваешь. – Нет, ты просто как-то завис. Хотя… раз уж на то пошло, как спина? – Нормально. – Значит, уже поправляешься? – Она позволяет очкам сползти обратно на переносицу, отпивает дайкири и пристально смотрит на меня. Вэл умеет создать напряжение. Я вылезаю из бассейна и направляюсь к трамплину. – Доктор Кирби вроде велел тебе не переутомляться, – напоминает она, но бассейн большой, и ее отнесло на матрасе в противоположный конец, так что я делаю вид, будто не слышал. Может, мне и удалось сбежать от проницательного взгляда Вэл, но ее первый вопрос выбирается вместе со мной из воды и преследует мокрой тенью: «Как ты, Но?» Теперь я на трамплине, на самом краю. Солнце почти зашло; надвигаются теплые сумерки, какие бывают только в конце лета, когда воздух струится, словно молоко, и очень приятно, но при этом грустно наблюдать, как день вот так умирает прямо на глазах, а ты ничего не можешь поделать. Похоже, у лета много общего с исчезающей женщиной. «Как ты, Но?» Знаете, однажды летом, когда мне было восемь (еще до Айвертона), я ездил в лагерь. Там я завел кучу новых друзей, и они научили меня стрелять из рогатки; там я выкурил первую (и единственную) сигарету, а у одного парнишки была фотография дамы в неглиже, послужившая поводом для познавательной беседы, откуда я узнал, что секс не ограничивается поцелуями в голом виде. После лагеря я вернулся домой, к своим старым друзьям, и обнаружил, что они ничего не знают про сигареты и рогатки. И даже не знают, что секс не ограничивается поцелуями в голом виде. Как бы я ни любил Алана и Вэл – а я их очень люблю, – иногда у меня возникает такое ощущение, что они тоже не слыхали про рогатки и сигареты. И до сих пор считают, что секс… ну и так далее. В противоположном конце бассейна Вэл сползла с матраса, схватила одну из длинных надувных макаронин и дубасит Алана по голове, он в ответ брызгается, и они по-летнему беззаботно хохочут. Я закрываю глаза и ныряю, полностью отдаваясь воде, и там, в ее блаженном покое, воображаю диаграмму собственного сердца.

В тех областях, которые раньше занимали самые важные для меня люди, теперь поселились «Мой год» Милы Генри, исчезающая женщина, пропавшая фотография и старик Зоб. Сам не знаю, как и почему так вышло. Я называю их своими странными увлечениями[1].
3. некоторые мысли об Айвертоне, о доме и дороге по дороге домой через Айвертон

Айвертон, штат Иллинойс, – воплощение живущей в нем молодежи: ей выдали ключи, кредитку и разрешили болтаться допоздна, и теперь она думает, что свое говно не пахнет. Окраины города застроены безвкусными кирпичными домиками, каждый из которых выглядит клоном соседнего, подъездные дорожки и гаражи ломятся от сияющих внедорожников, газоны раздражают взгляд своей неестественной зеленью, а деревья растут подозрительно симметрично. – Знаешь, насколько Айвертон белый? – спрашивает порой Алан. – Насколько? – отвечаю я. – Настолько, что снега не видно. Мать Алана и Вэл родом из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, а у их отца голландские корни. («Роса всегда первые», – только и говорит миссис Роса-Хаас, когда кто-нибудь спрашивает об их двойной фамилии. Судя по всему, исключительно на таком условии она согласилась выйти за мистера Роса-Хааса.) В городках вроде Айвертона наполовину пуэрториканцам живется непросто: одни считают Алана и Вэл белыми, а другие без конца допытываются: «Нет, ну серьезно, откуда вы на самом деле?» В прошлом году один тип в команде по плаванию пристал к Алану с тем же вопросом, и Алан ответил: «Из Айвертона», на что парень пояснил: «Да нет, в смысле, на самом-самом деле», и Алан ему говорит «А-а-а… вот ты о чем, а я думал, ты спрашиваешь, откуда я на самом-самом-самом-са-а-амом деле», отчего бедняга покраснел как рак, притворился, что у него звонит мобильник, и поскорее свалил. Вэл и Алан постоянно сталкиваются с такой ерундой и обычно делают вид, что им наплевать, а может, и правда наплевать, откуда мне знать. Но я никогда не забуду, как однажды Алан сказал: – Похоже, город ждет от меня, что я буду либо Роса, либо Хаас. А одновременно и тем и другим меня не хотят принимать. Так что у Айвертона есть и ключи, и кредитная карта, но боже ты мой, как же тут воняет.

Однако я уже на полпути к дому, и надо признать, что в ясную летнюю ночь по Айвертону очень даже можно гулять. Некоторые возразят, что ходьба – самый медленный способ попасть из точки А в точку Б, и будут правы, но для меня перемещение из точки А в точку Б – дело десятое. Главную ценность представляет собственно ходьба. Это тем более верно, когда я иду в гости к Роса-Хаасам или обратно, потому что на полпути между семьей и друзьями я ближе всего к своему подлинному «я». Я заворачиваю в наш тупичок, мимо разнообразных автомобилей семейки Оукменов: вот стоит мой хетчбэк «хендай» (который Алан называет «хентай»), отцовский «понтиак» (с деревянной отделкой и задним сиденьем, развернутым в сторону хвоста) и древний «лендровер» матери. Если хорошенько прислушаться, можно услышать коллективный презрительный смешок соседей. Этот дом мы купили вскоре после похорон дедушки Оукмена, прожившего последние годы вдовцом-затворником, а после смерти невольно подтвердившего подозрения насчет его финансового благосостояния. Каждому в семье достался приличный куш, и тогда я узнал нечто новое для себя: если внезапное наследство и правда лучше всего выявляет глубинные желания сердца, то глубинные желания моего отца касались не столько турбонаддува и немецких двигателей, сколько блаженства пригородной жизни. Папа – веганский повар и в целом держится на плаву: обслуживает свадьбы, бар-мицвы, бат-мицвы и всякое такое. И хотя мама – адвокат по профессии, но работает она на правительство штата, так что нашим домом мы обязаны главным образом дедушке Оукмену, мир его праху. Едва войдя в двери, я слышу голос мамы из гостиной: – Привет, зайка. Такой у нее условный рефлекс на двойной «бип» сигнализации на входной двери. «Бип-бип-привет-зайка». Могу поклясться, что слышал, как родители шепчутся, но когда я поворачиваю в гостиную, они только широко улыбаются, уютно прикорнув на диване перед телевизором, где идет очередная серия «Друзей». – Как там бассейн? – спрашивает папа, нажимая на «паузу». – Неплохо, – говорю я, а сам воображаю, будто тоже ставлю их на «паузу». Мои родители души друг в друге не чают, за что им честь и хвала, но иногда их взаимная любовь даже раздражает. Взять, к примеру, этот ритуал с «Друзьями». Каждый вечер они смотрят минимум одну серию из своей драгоценной коллекции на DVD. Папа с бурбоном, мама с бокалом вина, и оба в унисон поют I’ll Be Therefor You[2] и произносят все реплики Джоуи одновременно с Мэттом Лебланом. – Как спина? – спрашивает мама. – Никаких сюрпризов? Сюрпризов. Как будто моя спина – это захватывающий мини-сериал. – Все нормально, – отвечаю я, стараясь выражаться как можно нейтральнее, не то мама перейдет в режим перекрестного допроса. – Немножко зажата, но в целом нормально. Наш полуживой шарпей на ходу врезается в стену, перетягивая на себя всеобщее внимание. – Бедный Флаффи! – Папа подхватывает пса и бережно усаживает к себе на колени. Обычно наш Фалафель Печального Образа ковыляет по дому, всячески подтверждая свое прозвище, и хотя он совершенно не комнатная собачка, попробуйте объяснить это отцу. Со времен прошлогоднего кризиса, когда Флаффи навсегда охрип от собственного лая, родители нянчатся с нашим псом-пенсионером, точно с младенцем. – Что на ужин? – интересуюсь я. Мать делает глоток вина. – Сегодня была моя очередь готовить, – говорит она, что означает куриный кордон блю. Отец называет это блюдо «изменой вегана» и делает вид, что любит его, но я знаю правду: на самом деле он любит маму, а она больше ничего не умеет готовить. – Пенни проголодалась, так что мы уже поели, но я оставила тебе порцию в микроволновке. Просто разогрей. Я направляюсь на кухню и снова, почти на пороге слышимости, различаю шепот. Наверное, всякие нежности. Наверное, лучше не прислушиваться. Через блютус я подключаю телефон к кухонной колонке, ставлю Hunky Dory Боуи, нажимаю «пуск» на микроволновке и смотрю на вращающуюся тарелку. Аппетит у меня поуменьшился с тех пор, как я перестал плавать на скорость, и теперь поглощение пищи кажется мне нелепым, почти животным действом. Откусить, разжевать, разгрызть – в самих словах предполагается дикая звериная страсть. Все мы недалеко ушли от волков. Микроволновка пищит, тарелка перестает вращаться, добыча ждет меня. Я переношу ее на кухонную стойку, где мама оставила для меня салфетку, нож с вилкой и стакан сока. Рядом лежит записочка с моим именем (почерк мамин) и пятью восклицательными знаками; нарисованная ниже маленькая стрелочка указывает на мигающий огонек на домашнем телефоне. Отец настоял, чтобы мы оставили городской телефон для деловых звонков, и хотя звонят нам в основном с рекламными предложениями, у аппарата есть еще одно назначение – единственное, которое меня интересует, – принимать сообщения рекрутеров. Фоном Боуи поет про копов, пещерных людей и про матросов, дерущихся на танцплощадках, и мне жаль, что он не может оказаться прямо здесь, на нашей кухне, и поговорить со мной за жизнь – на Марсе или еще где-нибудь.
4. моя краткая история, часть девятнадцатая

Восьмого января 1947 года в Лондоне родился Дэвид Роберт Джонс. Была среда. Шел снег. Где-то по ту сторону Атлантики мальчик по имени Элвис отмечал двенадцатилетие. Ни тот, ни другой в детстве не подавали надежд в музыке, но им обоим суждено было сотрясти самые ее основы, перестраивая их снова и снова, пока само понятие – музыка – не изменится до неузнаваемости. По легенде, когда родился малыш Дэвид, акушерка заявила: «Этот ребенок уже бывал на Земле». Годы спустя Дэвид Роберт Джонс стал Дэвидом Боуи, и многие считают, что он бывал и на других планетах. Когда на свет появился Элвис – 8 января, двенадцатью годами раньше, – одновременно с ним родился его мертвый брат-близнец. Глэдис Пресли говорила друзьям, что у ее сына Элвиса «энергии на двоих». Бо́льшую часть жизни Элвиса преследовала мысль о том, что его брат умер, а сам он – видимо, случайно – выжил. Одни уже бывали на Земле, а другим шанс так и не представился. Восьмого января 1973 года на орбиту успешно вышла автоматическая станция «Луна-21». Совершив посадку, станция выпустила на поверхность спутника Земли – самоходный аппарат «Луноход-2», который сделал более 80 000 телевизионных кадров и 86 панорамных снимков. Малыш Дэвид вырос, начал сочинять песни про астронавтов и космос, а потом выпустил пластинку – в тот же месяц, когда на Луну прибыл «Аполлон-11» (кстати, Аполлон, помимо прочего, еще и бог музыки). Много лет спустя сын Дэвида снял фильм под названием «Луна». Малыш Элвис вырос и стал играть в группе Blue Moon Boys. У него родилась дочь, много позже она вышла замуж за культового музыканта, который прославился своей «лунной походкой». Со временем Элвис решил выступать самостоятельно и нанял менеджера по имени Томас Паркер. Элвис говорил о нем: «Только благодаря ему я добился успеха». У Томаса Паркера было прозвище Полковник Том. Полковник Том сделал Элвиса звездой. Дэвид Боуи написал песню про майора Тома, которого бросили дрейфовать среди звезд. «Луна-21» и «Луноход-2» больше не функционируют. Малыш Дэвид и малыш Элвис, как и «лунный пешеход», тоже сошли с дистанции. Но их музыка живет. Я слышал ее – и знаю, о чем говорю. И снимки с «Лунохода-2» я тоже видел – и знаю, о чем говорю. Меня восхищают тончайшие перемычки, соединяющие части Вселенной через время и пространство: одни скачут от звезды к звезде, точно плоский камешек по поверхности пруда; другие дрейфуют в бескрайних пустынных просторах. Меня привлекают слова «реинкарнация», «относительность» и «параллель». И я гадаю, может ли один из этих камешков дважды угодить в одно и то же место. Мой день рождения – 8 января.
5. я снова думаю о волках

Это началось в первый год в старшей школе. Алан сказал: «Надо записаться в команду пловцов». Так мы и сделали. Учитывая, сколько часов мы с Аланом провели в бассейне Роса-Хаасов и сколько раз я его побеждал в заплывах наперегонки, я решил – почему бы и нет? Оказалось, я очень даже ничего – быстрый, хоть и не самый быстрый. Потом, на второй год, я дорос до собственных конечностей или вроде того, потому что неожиданно результаты у меня стали умопомрачительными. Не по-олимпийски умопомрачительными, но достаточно заметными, чтобы вызвать интерес университетов почти первой лиги – Сент-Луиса, Манхэттенского государственного, Восточного Мичигана и Милуоки. (Последний особенно восхищал родителей, потому что от Айвертона до Милуоки всего пара часов на машине.) В предвыпускном классе результаты продолжали улучшаться, интерес ко мне возрастал, и 1 июля нынешнего года – в первый же день, когда тренер имеет право позвонить потенциальному рекруту, – я получил два приглашения: от тренера Тао из Манхэттенского университета и от тренера Стивенса из Милуоки; оба намекали на полную стипендию. Поскольку это не элитные колледжи с бездонными карманами, подобная щедрость там нечасто встречается, о чем мне сообщили прямым текстом. Раскрою великую тайну: я не фанат спорта. Просто мне нравилось плавать и у меня хорошо получалось. Я и не заметил, как стало получаться совсем хорошо, и тут началось: «Ого, да ведь это твое призвание!» Все говорили со мной о плавании с таким блеском в глазах, что даже не замечали отсутствия энтузиазма с моей стороны. А потом случилось это лето. Идет тренировка, олимпийская пятидесятиметровка, я посередине дистанции, как вдруг меня пронзает боль и все тело отказывает. Меня вытаскивают из воды, и тренер Кел суетится вокруг: «Ты жив, Оук? Что случилось? Где болит?» И я наугад отвечаю: «Спину прихватило». Вот так. Только и всего. Меня не выгнали из команды, не требовали отчисления, просто можно было больше не плавать. Как оказалось, травмы спины не всегда очевидны, поэтому, если не болтать лишнего, поддерживать обман легче легкого. Теперь я совершаю регулярные визиты к мануальному терапевту доктору Кирби; почти каждое утро тренер Кел проводит со мной разминку с дальним прицелом: мол, надо не только сохранить форму, но и показать моим будущим наставникам, что я всерьез рассчитываю восстановиться. Мама с папой вместе с секретарем тренера обзванивают университеты, и тут же Сент-Луис и Восточный Мичиган отпадают. Тренер Стивенс из Милуоки и тренер Тао из Манхэттенского государственного соглашаются потерпеть – возможно, благодаря маминой адвокатской силе убеждения, не знаю. Последние несколько недель мы постоянно обыгрываем разные гипотетические ситуации. Мама с папой давят на то, как важно сразу же брать быка за рога, а я напоминаю им, что пловцов обычно отбирают по весне. – Допустим, – соглашается мама, – но пловцы обычно не пропускают недели тренировок из-за травмы спины. Тогда папа выдает реплику насчет железа, которое куют, пока горячо, и мама продолжает гнуть ту же линию: – Раз уж тебе повезло получить приглашение осенью, какой смысл тянуть до весны и гадать, останется ли оно в силе. На это я обычно ничего не отвечаю. Официального предложения не поступало, поэтому, как по мне, тут и говорить особо не о чем. И вот, на автоответчике мигает лампочка, а на записочке восклицательные знаки. Я смотрю на тарелку с курицей, которая стоит передо мной, и завидую простой жизни волков. Пытаюсь вообразить, как они часами выслеживают добычу, гонятся за ней, нападают, а потом вдруг разжимают клыки, бросают дичь нетронутой и спокойно уходят прочь. Я беру телефон и нажимаю кнопку автоответчика: «Приветствую, это тренер Стивенс. У меня хорошие новости…»
6. чем больше расстояние, тем сильнее притяжение

– Ты просто обязан пойти, Но. Там будут абсолютно все. Вэл должна бы понимать, что последняя фраза вряд ли сильно поможет, особенно если посмотреть на меня сейчас: я валяюсь на кровати с ноутбуком на животе и кока-колой в руке, на экране – середина третьей за вечер серии «Девочек Гилмор»[3]. – Это которая? – спрашивает она, плюхаясь рядом со мной. Не успеваю я ответить, она уже: – А-а… ну ясно. Вэл – фанатка «Девочек». Она смотрела все сезоны, в том числе ребут, уже раз по десять. – Погодите, не рассказывайте, я угадаю, – вступает Алан, изучающий мои книжные полки, как будто он не знает их содержимое назубок. – Люк и Лорелай флиртуют, любовное напряжение нарастает, все идет как по маслу, а потом пшик, конец серии. – Алан! – возмущается Вэл. – У тебя нулевой романтический потенциал. – Валерия! Я понятия не имею, о чем ты говоришь. На экране Лорелай заходит в кафе Люка за четвертым кофе подряд. – Они там воду пьют хоть когда-нибудь? – спрашиваю я. – Только профильтрованную через кофейные зерна. Алан любит поиздеваться над «Девочками Гилмор», но уже не раз и не два мы с Вэл слышали, как он горланит у себя в комнате вступительную песню с фанатским упоением. – Однако, – говорит он, – зима в Старз-Холлоу выглядит охренительно. Я киваю из своего мягкого гнезда: – Жаль только, что «девочки» в титрах с маленькой буквы. – Да? – удивляется он. – А что не так? – Несимметрично – вот что. – Ясно. Вэл жмет на паузу, останавливая кино, и усаживается, скрестив руки и ноги: – Ной, я очень хочу, чтобы ты пошел на вечеринку. Ради меня. Пожалуйста. Я и ухом не веду. Бездействие, инертность, полная физическая атрофия целого дня, потраченного исключительно на Нетфликс: вот по чему я буду больше всего скучать, когда лето кончится. – Ты же знаешь, как я реагирую, если меня заставляют, – говорю я. – Я не заставляю, господи боже! Я прошу. – А я тебе говорю, что лето буквально просачивается сквозь пальцы, как песок в песочных часах, и вечеринка у Лонгмайров не входит в список того, на что я хочу истратить… ну, свой песок. – Ладно, мы поняли, – отвечает Алан, наклоняясь над моим столом и постукивая по кипе лежащих там бумаг, – Такому маститому писателю, видимо, неприлично показываться на заурядной школьной вечеринке. В прошлом году учитель английского мистер Таттл задал нам написать «краткую историю», где надо было исследовать какое-нибудь событие нашей жизни, пересекающееся с определенным моментом всемирной истории. Тема довольно расплывчатая, но я втянулся и, уже сдав сочинение, продолжал писать эдакие исторические виньетки. Потом я собрал накопившиеся заметки в один проект под названием «Моя краткая история» и послал его на национальный конкурс, который устраивает журнал «Новые голоса подростковой литературы». Конечно, я никому не рассказывал, потому что даже не мечтал победить. А потом победил. – Ты превращаешься в отшельника, – говорит Вэл. – Ты не замечал? – Нет, не замечал. – Ты никуда не ходишь. – Очень даже хожу. – Наш бассейн не считается, Но. – Я хожу… и в другие места. – Куда это? – Ну не знаю, – отвечаю. – Во всякие разные места. – А вы знаете, что Боуи умер в один год с Принцем и Мохаммедом Али? – спрашивает Алан, листая мой экземпляр биографии Дэвида Боуи. – Такая хрень всегда случается по три раза кряду. – В тот год и Джордж Майкл умер, – возражаю я. – А, ну тогда по четыре раза. – И вот интересно, чем плохо быть затворником, – продолжаю я. – У затворников, если вдуматься, всегда дурная репутация. Но ведь они всего лишь хотят сидеть дома и чтобы их оставили в покое. Что тут плохого? Алан, конечно, о своем: – Бро, затворникам не дают. Именно в этот момент в приоткрытую дверь заглядывает мама: – Кому это не дают? – Миссис О! – Алан бежит к ней обниматься. Отношения у них довольно специфические: Алан демонстративно и самым неподобающим образом с ней флиртует, а мама притворяется недовольной. Да только кого она обманывает. – Я думал, вы с мужем отправились в поход на весь день, – говорит Алан. Мама краснеет, как школьница: – Нет, только Тодд. У него есть своя небольшая компания друзей, и раз в пару месяцев они ходят к Голодной скале, пытаются доказать себе, что еще не состарились. Алан окидывает маму – мою мать, врубитесь, ту, что выпустила меня в этот мир и регулярно угрожает изъять обратно, – театральным взглядом сверху донизу, который только ему сходит с рук: – Не скажу насчет вашего мужа, миссис О, но вот вы, по-моему, только молодеете. – Ладно тебе, Алан, – морщится Вэл. – Серьезно, мы тут, похоже, наблюдаем симптомы Бенджамина Баттона[4], родившегося стариком и молодеющего с годами. – Ну хватит уже, прекрати. – Ной, мама у тебя просто огонь, даже не спорь. – Боже, Алан… – Извините, миссис Оукмен, – говорит Вэл. – Моего братца в детстве часто роняли головой вниз. Алан подмигивает моей матери и посылает ей фирменную чарующую улыбку Роса-Хаасов: – Не слушайте ее, миссис О. Вы прекрасно выглядите сегодня. Просто жжете. – Не уверена, что это комплимент, – отвечает мать, упиваясь моментом и усиленно делая вид, что вовсе не ради этого сюда заглянула. А кстати… – Мам, ты что-то хотела? Я догадываюсь, что она хотела спросить про сообщение тренера Стивенса, но сомневается, стоит ли говорить при гостях. – Просто хотела узнать, не нужно ли вам хрустиков или еще чего. – Хрустиков? Она кивает: – Или еще чего. – Мам, нам уже не по семь лет. – Мне тоже, – парирует она, – но я обожаю хрустики. – А есть у вас «Читос»? – спрашивает Алан. В ответ мама морщит нос: – Может, рисовых крекеров? Я вмешиваюсь, пока Алан не начал изображать, будто любит рисовые крекеры. – Спасибо, мам. Мы пока обойдемся. Когда она уходит, я отыскиваю старый плейлист Radiohead. Вэл ставит ноут на пол, ложится на другом конце кровати валетом, а потом и Алан плюхается рядом со мной, и мы уже втроем таращимся в потолок, слушая музыку. Иногда простые вещи и сложные вещи – это одно и то же, и тут как раз такой случай, наша троица слушает музыку, лежа бок о бок в одной кровати, и мы настроены на одну понятную лишь нам частоту. – Представь, что Айвертон – сцена, – почти шепчет Вэл, – шоу подходит к концу, и эта вечеринка будет нашим прощальным поклоном. – Как драматично, – замечаю я. – К тому же выпускной год еще даже не начался. А кроме того, кто сказал, что после школы мы расстанемся? Алан присмотрел себе курс анимации в университете Де Поля. Вэл, неуклонно пополняя свое фотопортфолио, говорит о Чикагском институте искусств с тем же восторгом, как Рори Гилмор – о Гарварде. И если отвлечься от недавних мук выбора, меня очень даже утешает, что лучшие друзья через год не уедут учиться на другой конец страны. – Что слышно про стипендии? – спрашивает Вэл. Я мог бы рассказать им про звонок тренера Стивенса, но знаю, что услышу в ответ. Мои шансы в следующем году попасть в Милуоки обрадуют Алана и Вэл еще больше, чем моих родителей. Если предположить, что они поступят туда, куда собирались, пара часов езды до университета Милуоки позволит сохранить наш треугольник в целости. Но есть и другие способы его удержать. – Может, мне просто найти работу в городе, – говорю я, пропуская вопрос мимо ушей. – А колледж отложить на потом. – Ной. – Вэл. – Не смеши. – Я серьезно. – И чем бы ты занялся? – В мире полно возможностей, Вэл. Уверен, для такого крепкого парнишки, как я, все двери открыты. – Вот ты так говоришь, но сам-то понимаешь, что в конце концов очутишься в «Старбаксе». Встревает Алан: – Говорят, у них там потрясающие бонусы. – На что Вэл сует ему пятку в нос. Алан отмахивается, после чего мы пару секунд просто лежим и слушаем Everything in Its Right Place, которую я считаю своим личным гимном: голые стены, книги на полках в алфавитном порядке, все белое или пастельное, идеально ровные стопки бумаг на столе. Потом я говорю: – Знаете что? – Что? – спрашивает Вэл. Помнится, когда Пенни была помладше, но быстро росла, временами я прямо-таки видел, как ее накрывает понимание, что она не всегда будет ребенком, и тогда она снова впадала в детство – начинала говорить тонким голоском или виснуть на маме, от чего давно отучилась. Чем больше я отдаляюсь от друзей, тем сильнее мне хочется притянуть их к себе. – Люблю я вас, ребята. – Я обхватываю одной рукой Алана за шею, другой – Вэл за лодыжки. – Люблю вас обоих, люблю наше лето и не променяю вас ни на кого другого. Песня заканчивается, и начинается другая, Daydreaming, – одна из тех, что сочатся меланхолией, как тонущий танкер – нефтью. Вэл садится и хлопает в ладоши: – Ладно, мальчики. Мы не станем просиживать весь день в стерильной спальне, слушая никчемную музыку, как… – Никчемные? – подсказывает Алан. – Именно. Мы не никчемные. Мы молодые, энергичные, жаждущие, у нас есть, знаете ли… – Жажда? – Неутолимая жажда, я хотела сказать. К счастью, я как раз знаю подходящую вечеринку для таких бойких детишек. Я сгребаю ноут с пола, возвращаю его к себе на живот и запускаю «Девочек Гилмор» с того места, где прервался: – Меня вы ни за что не заставите. Вэл наклоняется ко мне так, что над экраном видны только ее глаза: – Ной. – Имею право. – Будет очень жаль, если я случайно заспойлерю концовку. Я медленно поднимаю взгляд, уставившись ей в глаза: – Не посмеешь. Если бы брови могли пожимать плечами, именно такое движение они бы и сделали. – Ни за что не угадаешь, кто сбежит в Калифорнию. – Не смешно. – Или кто поженится на круизном лайнере. – Ты серьезно думаешь, что я пойду на какую-то идиотскую вечеринку, лишь бы не слышать спойлеров «Девочек Гилмор»? – Или кто не попадет в Гарвард.
7. я иду на идиотскую вечеринку

Уилл и Джейк Лонгмайры давно завладели пальмой первенства среди школьных мерзавцев и с каждым годом карабкаются по ней все выше. Кроме того, что немаловажно, они реально привлекательные, но привлекательность у них того же сорта, как у Лохте[5] или братьев Хемсвортов, а именно: когда их видишь, сразу возникает неодолимое желание дать им в табло. И я бы стыдился таких мыслей, но мне случалось видеть, как они обращаются со своими подружками, и случалось слышать, как они «шутят» над Аланом, так что, хоть я их и не бью, мечтать не вредно. Дом Лонгмайров отделяет от дороги газон размером с футбольное поле, и если выбирать среди особняков Айвертона самый большой, самый расфуфыренный и самый айвертонский из всех, то у нас есть победитель. Вэл паркует свой черный «БМВ» между двумя другими «БМВ», и мы втроем выбираемся из машины. Алан вытаскивает из багажника ящик с бутылками – вроде бы пиво, но, как бы так сказать, с налетом гламура. Вопреки здравому смыслу, я спрашиваю, что это. – Ящик «Ураганов», – отвечает Алан. – Ящик чего? – «Ураган», пивной коктейль. – Звучит… катастрофично. – Только примерно с четвертой бутылки, бро. Вообще-то, я не очень пьющий. Нет, я прикладываюсь по случаю, но слово «пьющий» обычно вызывает в воображении потный лоб и стеклянные глаза, а я предпочитаю все же сухой лоб и ясный взгляд. Как-то так. – А там? – Я показываю на пластиковый пакет, который Алан держит в другой руке. – Бульгоги, – говорит он. – Корейское барбекю. Только не такое барбекю, как обычное барбекю. Бульгоги – это вообще отдельная тема. Мы пересекаем лужайку перед домом, которая состоит из самых идеальных травинок, известных человечеству, и внезапно ворот футболки начинает меня душить. – У тебя все нормально, Но? – спрашивает Вэл. – Ты какой-то взъерошенный. – Все отлично. Только я не знал, что нужно приносить угощение. Алан ухмыляется: – Сынок, это никакое не угощение. Хрен мы с кем поделимся. – А, ну ясно, но вообще-то я с самого начала не хотел идти, так что вот. – Не напрягайся, чувак, – успокаивает меня Вэл. – Сейчас войдем, раздобудем тебе выпить – сам будешь рад, что выбрался, обещаю. – И кто знает, – добавляет Алан, – может, удастся покончить с сексуальной дискриминацией затворников. Сколько бы я ни убеждал Алана, что пока не собираюсь заниматься сексом, он мне не верит. Ну и ладно, с годами я и так подошел слишком близко. Пар десять трусов выкинул, только чтобы у родителей не возникало лишних вопросов в дни стирки. (Знаю-знаю. Но проще прикинуться, что не имеешь понятия, куда исчезает белье, чем объяснять подобные вещи.) В смысле, я вот к чему: решение о воздержании я принял не из-за отсутствия желания или возможностей. Жутко старомодно, я в курсе, но на самом деле вот в чем: по-моему, секс очень влияет на глубину отношений. Мне известно, какое значение он может иметь и как радикально способен сдвинуть отношения в ту или другую сторону, и для меня это весомый аргумент: можно запросто все протрахать (выражаясь фигурально). Нас, честных идейных девственников, мало кто понимает, но я не парюсь. Вэл останавливает нас, чтобы сделать селфи на фоне дома, и поскольку я уверен, что у меня на лице все написано, то надеюсь, что она хотя бы не станет выкладывать снимок. Год назад мне было бы все равно, но год назад у Вэл не было 100 k фолловеров. А теперь Валерия Роса-Хаас стала вроде как звездой соцсетей. Полагаю, многие хотели бы оказаться на ее месте, но для нее главное другое – собственно фотография. Начиналось все с обычного набора: уличные пейзажи, пропущенные через зернистые фильтры, прогулки на рассвете, прикольные ботинки в полумраке. Постепенно у нее сложился фирменный стиль – тщательно выстроенные композиции по мотивам любимых фильмов: узнаваемые предметы одежды или вещи персонажей; книги, которые они обсуждали; диски, которые они слушали; географические отсылки, тематические цвета. Все сделано очень мастерски и со вкусом, и если число подписчиков хоть о чем-то говорит, то я не единственный, кто так считает. Свои посты она иногда сопровождает снимками с социальным подтекстом, из которых мне больше всего нравится кадр с мужиком в зоопарке: он уткнулся в свой телефон, а с другой стороны толстой стеклянной стены его разглядывает горилла. Вэл добавила к фото простую подпись: «В клетке». В следующем году она всех уделает в арт-школе. Чем ближе мы к дверям, тем заметнее дрожит земля: рокот басов, гул болтовни и хохота; дом буквально подпрыгивает, громкость вывернута на максимум. Вэл прокладывает нам дорогу, без звонка распахивая дверь, и мы с Аланом тянемся следом. Внутри полно народу: пьют, хохочут, обнимаются, разговаривают. Мы пересекаем фойе, где у входа стоят старинные напольные часы с маятниками, по две штуки с каждой стороны. С потолка свисает массивная люстра, у левой стены поднимается широкая винтовая лестница. Одним словом, современная вариация Гэтсби. Вэл, в лучших традициях Ист-Эгга[6], ненавязчиво оказывается в центре внимания – ни разу не повысив голос и ничего особенного не делая, она почему-то выглядит круче всех нас. – Эй, Но, – говорит Алан, указывая на люстру, – эта штука даже больше твоего «хентая». Примерно в то же время я принимаю очень важное решение: сегодня точно напьюсь. Блестящий от пота лоб, стеклянные, как дешевые бусины, глаза. Это мой единственный шанс выжить.

Кухня здесь не столько кухня, сколько храм еды и напитков: двухдверный холодильник, сводчатые потолки, сияющие котлы и сковороды, подвешенные над стойкой, неоштукатуренная кирпичная кладка. Могло бы выглядеть весьма живописно, если бы все вокруг не было завалено банками и бутылками, пакетами чипсов и пластиковыми контейнерами, похоже, прошедшими через руки хирурга-экспериментатора. Обстановка рождает у меня жгучее желание надеть толстые резиновые перчатки, взять пылесос помощнее и оторваться как следует. – На всякий случай предупреждаю, – говорит Алан, видя, как я вытаскиваю «Ураган» из ящика, – эти штуки восьмиградусные. Не будучи, как уже говорилось, специалистом по части выпивки, я пропускаю его слова мимо ушей и хорошенько прикладываюсь к бутылке. Коктейль вишневого цвета и напоминает по вкусу леденцы, он быстро заканчивается, так что я тут же открываю вторую бутылку и с каждым глотком все больше ощущаю в себе силы вступить в настоящую беседу с другим человеком, не испытывая позыва засунуть кулак себе в рот. Или в рот собеседнику. Или хоть кому-нибудь. Прихлебывая «Ураган», я без особого плана прогуливаюсь вокруг. За домом обнаруживается огромный бассейн, в сравнении с которым бассейн моих друзей кажется детсадовским лягушатником. Естественно, и тут полно народу: гости пьют, карабкаются на бортики, целуются на гигантском надувном лебеде, подтягиваются на трамплине, брызгаются, вопят – сплошной «Повелитель мух», да и только. Вот и второй бутылке конец. Направляюсь на кухню за третьей через бесчисленные комнаты особняка; всюду полно ребят, знакомых мне по школе, но попадаются и новые лица. В конце концов меня затягивает в столпотворение танцующих, к эпицентру гремящего стерео, я отдаюсь музыке и внезапно уже танцую с какой-то девчонкой, не успев даже спросить, как ее зовут. Она очень даже ничего, так что я не парюсь, но здесь и без того парилка, к тому же «Ураган» подбрасывает мне интересный вопрос: я и правда родился таким неотразимым или же тут повлияло воспитание? – Так ты вчера был в этой же одежде? – спрашивает девица. Теперь мы стоим у стены, на обочине танцевального буйства. В какой-то момент мы решили отдохнуть (от танца, уточняю я для себя, а не от моей врожденной неотразимости), и я рассказываю ей про свою увлеченность Генри Дэвидом Торо, вдохновившим меня носить каждый день одну и ту же одежду. – Ну да, и вчера, и позавчера, и позапозавчера, и так далее. – То есть… – Девчонка делает шаг назад, вопросительно подняв брови. – Да нет, просто у меня десять пар одинаковых штанов и футболок. И я их надеваю по очереди, понимаешь? Она медленно кивает, потягивает пиво и оглядывается по сторонам. Я продолжаю распинаться: – Так что одежда у меня суперчистая, я вот к чему… (Ну ты красавчик, Оукмен, не отклоняйся от темы свежего белья, все идет отлично.) Не знаю, зачем я слушаю свой внутренний голос, но я его слушаю. – Между прочим, муки выбора реально утомляют. И я, точно завзятый соблазнитель, рассказываю девице, как пошел с мамой в магазин, выбрал любимый комплект – узкие темно-синие штаны с подворотами и белую футболку с Дэвидом Боуи (на картинке он курит, а поверху идет надпись большими буквами: BOWIE) – и купил сразу десять штук. К ним я добавил пару высоких коричневых ботинок на шнуровке, на чем и остановился. Вэл называет эту комбинацию «синий Боуи». – Помогает оптимизировать повседневность, – продолжаю я, – но, как я уже упоминал, катализатором послужил Торо. «Мы растрачиваем нашу жизнь на мелочи»[7] – вот как он говорил, и это чистая правда, согласна? Хотя я знаю, о чем ты думаешь. – Это вряд ли, – говорит моя собеседница, но я продолжаю: – Ты думаешь, что большинство перерастают фазу Торо, оставляют ее в прошлом, а сами такие: «Ой, как мило, в юности я считал Торо таким крутым», но мне пофиг. Я обожаю Торо и его офигенскую философию простоты. Особенно крут «Уолден», согласна? Ты читала? – Глоток «Урагана». – Идея в том, чтобы отбросить весь шлак, поселиться у озера и сочинять. Кстати, Мила Генри именно так и поступила. – Вишнево-пивная мудрость из меня так и хлещет! – Я тебе гарантирую, что ни один из них не парился, сколько дней прошло с предыдущего раза, когда они надевали любимую футболку. «Упрощайте, упрощайте». Вот я и стараюсь, по-честному стараюсь. Как-то так. Только теперь я замечаю, что передо мной уже не та девчонка, с которой я разговаривал перед этим. Новая девчонка хлещет из одноразового пластикового стаканчика жидкость, по запаху похожую на неразбавленный виски. Она хихикает: – Ты такой прикольный, Джаред. – Какой Джаред? Девица начинает истерически хохотать: – Вот видишь? «Какой Джаред?» – Она взмахивает руками, и часть выпивки выплескивается на пол. – Ой, блин, как меня плющит… Ну и? Вокруг кипят такие страсти, что я мог и потерять нить разговора. – В смысле? – Что ты сказал? – спрашивает она. – Я вообще ничего не говорил! Она снова хохочет, машет руками и снова проливает виски: девица совершенно пьяна. Кстати о выпивке: в следующий раз нужно прихватить сразу две бутылки, эта вишневая фигня просто офигенная. – Давай, Джаред! Очевидно, устав от разговоров, девица втаскивает меня в гущу танцующих, пятится, тычась задом мне в пах, танцует мимо ритма, а затем медленно и торжественно поднимает одноразовый стаканчик, веером выплескивая остатки содержимого на пол вокруг нас. Я высматриваю Вэл или Алана в надежде на поддержку. Вэл нигде не видно. Алан, прислонившись к нагромождению динамиков, целуется с Леном Ковальски, теннисистом, который в прежние времена каждые вторые выходные забрасывал наш дом яйцами. С другого конца комнаты мне улыбается незнакомая девушка. Она симпатичная и запоминается благодаря ярко-голубой косынке, стягивающей волосы. – Джаред! Я оглядываюсь на свою собеседницу: – Чего? – Ладно, побуду Джаредом. – Поехали в Ванкувер, – лепечет она прямо мне в лицо, и я различают аромат ее дыхания – головокружительная смесь сладкой кукурузы и древесного угля. Я скидываю ее руку с шеи, попутно размышляя, как эта рука там вообще оказалась. – А что там в Ванкувере? Она хохочет, будто я остроумно пошутил, потом выкрикивает: – Трава, чувак! – После чего поскальзывается в луже собственной выпивки и – опаньки, уже валяется на полу. Играет следующая песня, свеженький трек Понтия Пилота, и вокруг начинается форменное буйство. Я стараюсь не вслушиваться, помогаю бедняге подняться и веду ее к дивану в соседней комнате. – Т-ты… ты обалденно милый, – бормочет она, тыча пальцем мне в грудную клетку. – Мир такой ужасный, Джаред. Ужасный и поганый. А ты нет. Ты уж-жасно милый! Я усаживаю девицу на диван, пристраиваю ее затылок на подушку и говорю первое, что приходит в голову, мою любимую цитату из книги «Мой год»: – Может, мир не такой уж шматок дерьма. – Шматок, – хихикает она и – бац, уже спит. Выждав несколько минут и убедившись, что она дышит, я отправляюсь в храм еды и напитков, чтобы проверить на практике теорию Алана о катастрофическом действии четвертой бутылки «Урагана».
8. солнечный метод Филипа Пэриша

Понтий Пилот – чикагский музыкант, год назад он выступал у нас в актовом зале, когда мы собирали средства для школьного журнала. Обычно концерт во вторник утром имеет нулевые шансы на успех, но ученический совет не смутили такие расклады, событию дали громкое название «Мега гала», и таким образом Понтий Пилот превратился в легенду. Впрочем, популяция школьников по большей части относилась к его музыке примерно как к футбольному кубку, выигранному в четвертом классе, или к рифленой картошке фри в столовой: всего лишь ностальгическая любовь, слабая и непрочная. После того концерта Понтий Пилот согласился поговорить о своем творческом методе у нас на факультативе продвинутого английского. – Как ваше настоящее имя? – спросил его кто-то из ребят. – Вообще-то, меня зовут Филип Пэриш, – ответил Понтий Пилот, – но псевдоним способствует развитию бренда. А для музыканта бренд – это всё. – Не могли бы вы раскрыть свою мысль? – Мистер Таттл давно уже превратился в автомат, обреченный вечно анализировать концовку «Гроздьев гнева», декламировать «Макбета» и задавать вопросы, вроде «Не могли бы вы раскрыть свою мысль?». Пэриш пожал плечами: – Бренд представляет вас публике. Выделяет из толпы. И в конце концов, возможно, люди вспомнят ваш псевдоним и свяжут его с вашим творчеством. – Он указал пальцем на компьютер на столе мистера Таттла. – Яблоко с надкушенным боком. – Затем на банку «Пепси» мистера Таттла: – Синяя банка с красно-бело-голубым кругом. – Но это предметы, а не люди, – возразил Алан. В ответ Пэриш показал в мою сторону: – Вот этот парень знает толк в бренде. – Ной? – удивился кто-то. – Он имеет в виду Боуи, – пояснила Вэл. (В прошлом году факультатив продвинутого английского был единственным уроком, куда мы ходили все втроем. Очевидно, школьный секретариат сделал выводы и больше не повторял ошибки.) Пэриш кивнул и спросил у меня: – Ты ведь ты не просто так носишь эту футболку? Ты знаешь, о чем я говорю, верно? – О Дэвиде Роберте Джонсе, – ответил я. Пэриш обратился к остальным: – Хоть кто-нибудь из вас сумеет запомнить имя «Дэвид Роберт Джонс»? Возможно. Все-таки он совершил революцию в музыке, и далеко не только в музыке, так что не исключено. Но вы гляньте на эту футболку. Весь класс повернулся ко мне и уставился на мой торс, на крупную надпись BOWIE и портрет самого Боуи под ней, с сигаретой, свисающей изо рта. – Музыка, сексуальность, имидж, – продолжал Пэриш, – все это заключено в единственном, понятном каждому имени: Боуи. Один из учеников поднял руку: – А на ваш псевдоним вас вдохновил тот чувак из Библии? – Вроде того, – ответил Пэриш, вдруг занервничав. – Но ведь пишется по-другому, да? Пэриш пожал плечами: – Намеренное искажение укрепляет бренд. Теперь руку подняла Вэл: ...
Все права на текст принадлежат автору: Дэвид Арнольд.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Купить эту книгу в ЛитРес
Купить эту книгу в ЛитРес