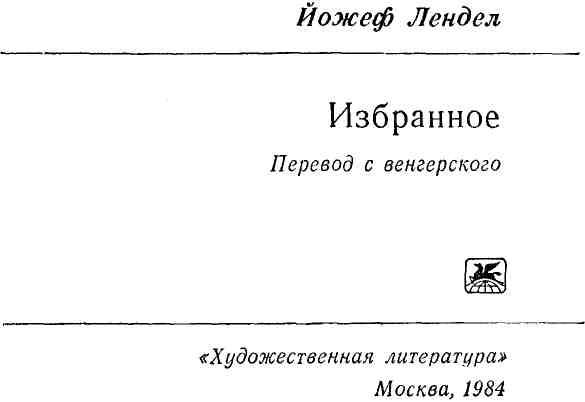Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
Избранное
Слово о Йожефе Ленделе
Это имя пока мало что говорит советским читателям. А между тем Йожеф Лендел прожил на нашей земле ровно четверть века и первое крупное его прозаическое произведение (начинал он как поэт) — «Вышеградская улица» — впервые увидело свет в 1932 году, и не на родине, а в СССР, и не на венгерском, а на русском языке. Автор предисловия — Бела Кун, выдающийся деятель венгерского и международного коммунистического движения. Книга написана по не остывшим еще следам событий — она посвящена венгерской пролетарской революции 1919 года, непосредственным участником которой был Йожеф Лендел, один из создателей Венгерской Коммунистической партии. На родном языке и у себя на родине она появится лишь в 1957 году, то есть двадцать пять лет спустя, уже в народной Венгрии. В том же году единомышленник, товарищ и соратник Лендела по перу, писатель Бела Иллеш, участвовавший в освобождении страны от фашизма в рядах Советской Армии и, стало быть, непосредственно причастный к возрождению книги в ее первозданном виде, поскольку писалась она все-таки на венгерском, так скажет о ней:«Существует немного книг, которые так верно передавали бы революционные традиции, как книга Йожефа Лендела, до такой степени убедительно показывали бы величие героев пролетарской революции, непревзойденный героизм революционного рабочего класса Венгрии. Откровенное признание совершенных революционерами ошибок во многом повышает убедительность книги. Йожеф Лендел пишет выразительным языком, стиль его строг и четок, создаваемые им картины красочны и незабываемы. Он одновременно историк и критик, романист и лирик. Й. Лендел несправедлив лишь по отношению к одному человеку — к самому себе. Он не только принижает свою роль в революции, но и — что еще более несправедливо — умалчивает о моральной чистоте своего примера и той большой воспитательной роли, которую он мужественно и честно выполнял. В самые тяжелые дни и месяцы венгерской истории ученики Й. Лендела доказали, что прошли отличную школу. И сейчас еще немало людей, которым Йожеф Лендел проложил путь в коммунистическую партию, в лагерь борцов за свободу…»Лендел на четыре года старше двадцатого века. В 1986 году ему исполнилось бы девяносто, Он ушел от нас совсем недавно — в 1975 году. Значит, прожито без малого восемьдесят. Если арифметически — немало. В человеческой жизни иной отсчет времени. Тем более когда она слита с эпохой безраздельно, до последней капли крови, до последнего дыхания. Сам Лендел выразится просто, точно и сжато: «Ключ к пониманию моих романов один — эпоха». Добавим от себя: к пониманию всего его творчества. Напомним: двадцать пять лет у нас, а вообще в политической эмиграции с 1919 года (Австрия, Германия — это до апреля 1930 года). В общей сложности — тридцать шесть лет. Мне посчастливилось знать его лично. Нас познакомила талантливая фотожурналистка Эдит Молнар. Он очень тепло к ней относился, доверял ей. В 1981 году она выпустила книгу-альбом «Писатель, быль, фотография». Листаю ее с чувством, будто в ней пусть и скромные, но кусочки моей собственной жизни — в ней лица родных людей, которых, увы, уж нет, но которые все так же дороги мне. Листаю и думаю: хорошо бы и у нас издавать такие вот авторские «фотобыли» — чтобы можно было вглядеться в лица, глаза… В книге есть глава о Йожефе Ленделе. В ней — кроме фотографий — короткие, как магниевые вспышки, зарисовки деталей, подробностей, из которых складываются облик человека, атмосфера дома, в котором он живет. Теперь уже — жил. …Лендел вернулся на родину в 1955 году. Он дважды менял квартиру и вовсе не из праздной охоты к перемене мест, просто искал «свое» место, прежде чем поселился наконец — и уже до конца жизни — в Буде, на Крепостной горе, в доме на бастионной аллее Арпада Тота[1], окнами на вечерние закаты. Стоишь на аллее, и такое ощущение, будто ты на палубе парусного фрегата. Если перейти на другой «борт», откуда кроме ленты Дуная видны восходы солнца, то там еще более неоглядные, прямо «океанские» дали:
И вдруг с восточной части небосклона
На крыши брызнул золотистый жар,
И раздробилось солнце в стеклах сонных…
Но вот колокола сказали слово…
Никто не видел в суете привычной,
Что луч к натруженной руке девичьей
Губами золотистыми припал…[2]
Арпад Тот (может, и не про Цепной мост, про другой, но это не важно):
Чувствуешь: мост невесом.
Над берегами, горящими жарко,
Он — как парящая птица — повис:
Солнца напьется и с места рванется
В непостижимую высь…[3]
Заря блеснет тому, кто нам придет вослед…[4]
«У меня, старика, уже седые волосы… Как много времени в нашем прошлом и как мало его остается в будущем — и уже хотя бы потому должны мы испытывать чувство долга перед этим будущим».Это строки из его публичного отречения от ренегата: их свела революция девятнадцатого и развел год пятьдесят шестой. Они написаны и высказаны принародно, в грозный для родины час, когда контрреволюционная лавина едва не утопила венгерский народ в крови, — это было бы уже в третий раз за неполных сорок лет его истории. Йожеф Лендел привык называть вещи своими именами. Добро — добром. Зло — злом. Сегодня, в час нависшей над всем человечеством смертельной опасности, уверенностью дышит слово писателя:
«С незапамятных времен до наших дней и, наверно, еще долго-долго символом и девизом мира будет голубь с оливковой ветвью в клюве… Вверху, в безоблачной полуденной выси, прямо над цыплятами, распластав крылья, кружил ястреб — устрашающе медленно, с рассчитанной точностью. Вот-вот он сложит крылья и тяжелым камнем обрушится на облюбованную добычу. Но между ним и добычей — голуби, их огромное скопище сбивает прицел его зорких глаз. Ястреб еще какое-то время кружил над цыплятами, потом притворно ленивыми взмахами поплыл вдаль, превратился в крохотную точку и исчез. Вот и все. И такими иногда бывают голуби. Я оставляю при себе возвышенные сравнения, дабы не взлетели они выше голубей облаками высокопарных слов».
Владимир Ельцов-Васильев
РАССКАЗЫ
Немец
1
В вагоне-ресторане закончился «table d’hôte»[6]. Гудел вентилятор. Официанты бесшумно наводили порядок, стелили чистые скатерти на столики красного дерева. Худенький пикколо[7] усердно начищал фланелевой тряпкой обрамленные медью окна. Тер он их так старательно, что на лбу у него выступили капельки пота, а на землистой коже лица заиграл лихорадочный румянец. Вагон-ресторан с негромким перестуком мчался по скучной, однообразной европейской местности, где не было ни больших рек, ни далей, ни длинных тоннелей, словом, ничего такого, ради чего стоило бы томиться у окна; здесь каждый клочок земли на протяжении многих сотен лет возделывался рукой человека. В ресторане был занят только один столик. Несколько мужчин пили кофе, коньяк и, как принято в подобных случаях, пока разговор еще не зашел о женщинах, развлекали друг друга анекдотами о представителях различных наций и народов. Получили по заслугам и скупой шотландец, и хвастливый поляк, и кичливый американец, и повеса-француз, и хитрый еврей, и педантичный немец. Вполне естественно, что вскоре разговор превратился в спор: ведь окружающий мир еще хранил множество зримых и незримых следов развязанной немцами войны. Грузный, краснолицый, с двойным подбородком, тщательно выбритый мужчина в свободно болтающемся сером костюме, которого, если бы он не назвался адвокатом, можно было бы принять за торговца модным ширпотребом, стал обзывать неофашистом молодого человека, маленькими глоточками потягивавшего из бокала мадеру. На молодом человеке был новенький, с иголочки костюм. Прямая спина, манера отрывисто бросать слова, маленькие усики и бакенбарды наводили на мысль, что он из бывших офицеров, хотя сам он утверждал, будто служит коммивояжером в фирме по продаже пылесосов. Молодой, но уже раздобревший американец, по роду занятий, очевидно, сынок богатых родителей, добродушно и громко хохотал, много пил и с заметным удовольствием натравливал друг на друга адвоката, похожего на торговца модным ширпотребом, и коммивояжера, смахивавшего на офицера. Дружеское интернациональное застолье вагона-ресторана рушилось, послышались реплики ничуть не менее резкие, чем те, которыми еще несколько лет назад обменивались на всемирных конференциях представители различных стран, брызжа друг другу в лицо ядовитой слюной… — Позвольте мне рассказать одну историю, — вдруг проговорил пассажир, до этого не принимавший участия ни в обмене анекдотами, ни в споре и ни словом не обмолвившийся о своей профессии. Обладатель двойного подбородка бросил на него оценивающий взгляд. Седина уже сильно посеребрила волосы мужчины, и потому адвокат сделал вывод, что человек этот должен придерживаться солидных взглядов. Баритоном, переходящим в бас, он произнес: «Мы были бы очень рады», — и отрекомендовался. Офицер-коммивояжер отметил, что костюм хотя и не очень новый, но явно от хорошего портного — прекрасно сидит на этом широкоплечем сухопаром человеке, речь и жесты у него спокойные, и потому счел незнакомца обедневшим аристократом, а странное его произношение позволило коммивояжеру предположить, что он — младший отпрыск какого-нибудь английского лорда, и тотчас проникнуться к нему безотчетной симпатией. «Ну что ж, если эта история кажется вам заслуживающей внимания…» — сказал он и постучал по крышке своего роскошного портсигара толстой египетской сигаркой. Молодой американец решил, что ему снова предстоит услышать нечто забавное, и поудобнее откинулся на стуле. Автор этих строк слушал.2
Насмешливые серо-голубые глаза незнакомца внимательно оглядели присутствующих. — Рекомендую вам, господа, — начал он, — прежде чем спорить о своеобразии разных народностей, прочитать или перечитать заново рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг»… Жаль, что вы, американцы, — тут он повернулся к сынку богатых родителей, — позволили умереть с голода своему величайшему писателю. Правда, это было давным-давно… но ведь нечто подобное может повториться… Историю, которую вы сейчас от меня услышите, обычно знакомым не рассказывают… Дело в том, что моя роль в ней не слишком благовидна. Но мы-то ведь встретились всего на несколько часов, сойдем с поезда на разных остановках и тотчас позабудем друг друга, — в глазах мужчины мелькнула насмешка, — так что к своему рассказу я отношусь как к уплате долга; эпизод этот связан с одним немцем. История тем более интересна, что в наши дни — уже или еще — не очень-то модно хвалить немцев. — Полагаю, вы не рассчитываете на литературную изысканность рассказа, — седой мужчина потер висок, — но мне никак не избежать нескольких слов о времени и месте, где это произошло. Я попытаюсь изложить самое необходимое с лаконичностью полицейского протокола. Время действия — тысяча девятьсот двадцать девятый год. С той поры прошло более четверти века, половина моей жизни, а тогда я был закаленным и натренированным молодым парнем и убежденным коммунистом. Я считал себя боевым, стойким, хорошим членом партии. Место действия — Потсдам. Бывшая резиденция прусских королей; в те времена город весьма реакционный или, скажем, консервативный. Во всем Потсдаме тогда едва ли насчитывалось и полсотни коммунистов; сторонников Гитлера там тоже было не густо. Это был город чиновников. В основном здесь жили бывшие офицеры вермахта со своими семьями. Они определяли цвет города, причем в буквальном смысле этого слова: на крышах домов, на яхтах и моторных лодках по рекам и озерам в окрестностях Потсдама, даже на лодчонках простого люда развевались по ветру старые «имперские» черно-бело-красные или прусские черно-белые флажки. Очень редко среди них можно было увидеть лодку, где был флажок со свастикой, или черно-красно-золотистый флаг республиканца, или красный флажок спортсмена-коммуниста. Словом, время и место действия — осень тысяча девятьсот двадцать девятого, два — половина третьего ночи, Потсдам, Железнодорожная улица. Важно отметить, что произошла эта история именно на Железнодорожной улице. Дело в том, что по одной стороне улицы во всю ее длину тянулся высокий забор, за которым были рельсы и складские помещения товарного вокзала. А на другой стороне, примерно в центре, стояли всего два дома метрах в пятистах — шестистах от Потсдама и на таком же расстоянии от другого городка — Новавеса. А дальше — пустыри, пойменный луг реки Хафель, болото. За болотом — река, на берегу которой лепились нежилые лодочные сараи. Даже днем на Железнодорожной улице почти не было движения, ночью же и за несколько часов здесь едва ли можно было встретить живую душу. Автомобилисты избегали ездить по этой скверно мощенной улице, которую не считали нужным приводить в порядок ни потсдамские, ни новавесские городские власти. Должно быть, никак не могли решить в споре, кому же все-таки следует ремонтировать дорогу. Итак, в одном из двух домов, расположенных на Железнодорожной улице, двое молодых людей в ту ночь выпили изрядное количество ликера «Half to half» — крепкого голландского напитка… Они много выпили, потому ли что оба любили одну девушку, или, скажем, один пил с радости, а другой — с горя, или, скажем, «от избытка жизненных сил», или же оттого, что пульс их жизнелюбия вдруг забился с перебоями, — не имеет значения… Один из нас — Гейни, высокий узколицый блондин, употребляя сегодняшний или, точнее говоря, вчерашний термин, был типичным арийцем. Вторым молодым человеком был я сам, — разумеется, моложе на добрую четверть века. Часа в два ночи Гейни и я «от избытка жизненных сил» или, как я уже говорил, по иным каким причинам, решили, что нам необходимо «выкинуть что-нибудь этакое». Выйдем на улицу, а там уж что подвернется.3
«Выкинуть что-нибудь этакое» в переводе на казенный язык полицейского протокола есть не что иное, как примитивное хулиганство подвыпивших людей. Мы прицепились к бамперу какого-то автомобиля, водитель его, очевидно, толком не знал дороги и случайно заехал на Железнодорожную улицу: так мы добрались до Потсдамского вокзала. Там мы спрыгнули. Однако этот подвиг, напомнивший нам короткоштанное детство, не удовлетворил нас. Мы вышли на небольшой бульвар перед вокзалом в надежде увидеть там на скамейке парочку влюбленных, над которыми можно будет подшутить. Но скамейки оказались пустыми. Мы подождали, вдруг да со станции появятся люди, с которыми удастся или подружиться, или рассориться. Но из здания вокзала никто не выходил, видно, последний ночной поезд уже прошел. На площади перед вокзалом не было и такси. Мы предприняли последнюю попытку — направились в здание вокзала. Привокзальный ресторан оказался закрытым. Мы заколотили в дверь. Заспанный ночной сторож, вынырнув неизвестно откуда, пробурчал что-то насчет полиции и прочих последствий, но оказался достаточно опытным и хитрым, чтобы позволить нам стучать, пока не надоест. — Пошли домой, — предложил Гейни. — Если привокзальный ресторан закрылся, значит, никуда больше не попадешь. Дома приготовим грог по рецепту гамбургских моряков. — Пошли, — согласился я. С вокзальной площади мы повернули обратно на Железнодорожную улицу. Каждый из нас был занят собственными мыслями. Вероятно, желание пить грог у нас тоже пропало. Но когда мы молча брели по вымершей улице, отказавшись уже от всяких поисков приключений, перед нами вдруг возникла одинокая фигура человека, шедшего со стороны Новавеса. — Сейчас мы с этим «Stahlhelm»[8] потолкуем, — заявил я. Или, может быть, Гейни? Честно говоря, сейчас я точно не помню, кто из нас это сказал. Известно, что память наша слабеет, когда вспоминать стыдно… Впрочем, сегодня это уже не имеет никакого значения. Гейни с нами нет, допустим, инициатором был я. Между тем незнакомец приблизился к нам. — Стой! — приказал Гейни. Это я точно помню. И сегодня слышу его сдавленный, полный угрозы голос. Мы стояли, широко расставив ноги, касаясь друг друга локтями. Одинокий прохожий остановился. Черты его лица уже стерлись в моей памяти. Помню только, что он был необычайно бледен. Освещали улицу в основном дуговые фонари товарной станции, находившиеся на значительном расстоянии, к тому же они, как я уже говорил, были отделены от улицы высоким дощатым забором, отбрасывающим тень. У незнакомца было очень бледное, изможденное лицо, на вид он казался лет сорока, был худ, невысок и немного сутул, одет в черное или темное пальто и такого же цвета брюки. Брюки книзу сужались, были немодного покроя, и как-то сразу бросалось в глаза, что они дешевые и сели от стирки. Черные высокие ботинки на шнурках начищены до блеска; помню, что в них отражался свет дальних фонарей. Между ботинками и краем брюк — я окинул этого человека внимательным взглядом сверху донизу — виднелись тощие ноги. Выглядел человек регистратором земельного ведомства, писарем судебной палаты или железнодорожным кассиром; наверняка он состоял членом «Stahlhelm» и возвращался домой после небольшой попойки… — Что вам нужно? — тихим хрипловатым голосом спросил он. Гейни шагнул к нему, приблизив свое лицо типичного арийца к лицу незнакомца: — В какой партии ты состоишь? С вновь проснувшимся желанием подраться мы, мысленно хихикая, представили себе, что сейчас со стороны незнакомца последует попытка заключить нас в объятия, мол, привет, земляки, камарады, и тому подобное. Ответом же будет хорошая оплеуха. — А вам что за дело? — раздраженно проговорил незнакомец. — А это ты сейчас узнаешь! — ответил я и помню — от внезапно вспыхнувшей дикой злобы руки мои сжались в кулаки. — С какой стати вы не пропускаете меня?! Уйдите с дороги! — Прежде ты вежливо и четко ответишь нам, в какой партии состоишь, — проговорил Гейни, его подбородок почти касался лица незнакомца. Винный перегар, конечно, ударил тому в нос. Предчувствуя, что Гейни сейчас нанесет удар, я следил, не полезет ли незнакомец в карман за оружием. Мужчина отступил на шаг и огляделся. Повторяю: Потсдам, 1929-й, половина третьего ночи, безлюдная Железнодорожная улица. Одеты мы были хорошо. Гейни — типичный ариец. Я на немца не похож, что тоже добра не предвещало. От нас разило спиртным. В те времена убийства по политическим мотивам не были редкостью. На бледном лице незнакомца двумя глубокими ямками темнели глазницы. Он вскинул голову и огляделся в этой страшной глухомани, где не было видно ни души. В его глазах отразились огоньки дуговых фонарей. Словно перед смертью желая еще раз увидеть свет, он мгновение глядел прямо на фонари. Потом опустил голову, и огоньки в его глазах погасли. Мы же нетерпеливо застыли, расставив ноги, мышцы наши были напряжены, готовые к удару. Незнакомец все еще думал, размышлял. Затем откашлялся. — Ну, — поторопил его Гейни. — Ладно, — произнес мужчина хриплым, слегка дрожащим голосом, — вы можете меня убить, но я все равно скажу: я — коммунист!4
Тут произошло нечто удивительное. Слов не хватает объяснить это. При подобной ночной встрече в подобных условиях и в подобном месте у незнакомца едва ли была одна десятая шанса, что признание это он сделал не перед убийцами. Мои сжатые в кулаки, готовые нанести удар руки непроизвольно опустились и повисли, словно чужие. Ноги дрожали. Оба мы мгновенно протрезвели. Гейни первый пришел в себя. — Дорогой ты наш товарищ, — заикаясь, пробормотал он. — Но ведь мы тоже… Мы — свои!.. Мы думали, что ты какой-нибудь «Stahlhelm» или нацист, и решили немного… Пошли к нам… Отсюда две минуты ходу. Видишь вон тот дом? Посидим, потолкуем… Пошли! И он взял незнакомца под руку. Но тот высвободился. — Не имею ни малейшего желания, — холодно проговорил он. — Мы думали, что встретили врага, — залепетал я в оправдание. — Странный метод проверки, — довольно желчно заметил незнакомец. — Ты не думай, вообще-то мы… — заикаясь, бормотал Гейни. — Но есть в жизни минуты… Пойдем с нами, я тебе все объясню… — Гм… Я очень устал, возвращаюсь с работы. Нет желания! — и он внимательно оглядел нас. — С работы? — обиженным голосом переспросил Гейни. — Но ведь уже далеко за полночь. — Я работаю официантом в ночном ресторане, — сухо ответил мужчина. — Идите-ка лучше домой да проспитесь как следует, — добавил он с явным презрением. И не протянув нам руки на прощанье, он повернулся и поспешным, но твердым шагом продолжил свой путь в сторону Потсдама. Мы же с Гейни смотрели, как он удаляется по безлюдной, плохо освещенной улице. Скоро стал заметен только его силуэт, узкие и слишком короткие брюки, тощие ноги, торчащие из-под штанин. Некоторое время еще слышались звуки его шагов, потом все стихло; наверное, он вышел на привокзальную площадь. А мы все стояли молча, пристыженные, смущенные. И вдруг с другого берега реки, со стороны города в ночной тишине до нас донесся перезвон колоколов на часах Garnisonkirche[9]:Üb immer Treu und Redlichkeit
Bis an dein stilles Grab…[10]
5
Днем эти звуки тонули в шуме города: автомобильных гудках, звоне трамваев, а главное — в гуле уличных шествий. Но, очевидно, все же не потонули… Я имею в виду людей, не тех, кто требует и провозглашает «Treue und Redlichkeit» — «верность и добропорядочность до могилы», а тех — и я не думаю, что их так уж мало, — кто на деле следует этим принципам… Между прочим, Garnisonkirche и находящаяся внутри нее могила Фридриха Великого взывали к деянию меньшему, чем совершил этот незнакомец. В песне речь идет о славе, чести, воинской доблести, гражданском долге, а у того незнакомца не было никакой надежды на славу, победу, и тем не менее человек оказался готов на все во имя своих убеждений… Вот это как раз и называется гражданским долгом. — С тех пор, — седой мужчина вновь потер виски, — я поверил и верю по сей день в немецкий народ. У меня, не немца, есть на то полное право… Между прочим, в Потсдаме и во времена Фридриха Великого нашелся мельник, который ни за деньги, ни из страха перед угрозами не пожелал отдать свою мельницу Фридриху. Этот самый мельник наивно — что также свидетельствует о его честности — отвечал угрожающему ему королю: «Es gibt noch Richter in Berlin» — «Есть еще судьи в Берлине…» Гражданский долг… Я, правда, как вы понимаете, не слишком-то хвастаюсь этим приключением перед друзьями. Тут седой мужчина поднялся. — Посчитайте, — крикнул коммивояжер из бывших офицеров. Все расплатились. Кивком головы попрощались друг с другом. Громко гудел вентилятор. Вспотевший мальчик с тряпкой в руках подошел к нашему столу. Второй официант снял скатерть, а рядом уже стоял третий со свежей скатертью наготове. Я вышел из вагона-ресторана последним.Перевод С. Фадеева.
На одной улице
Раннее утро, восход солнца. Дома не отбрасывают тени — улица тянется почти точно с востока на запад. Дворники подметают тротуары. Это еще не окраина города; окраина начинается сразу за железнодорожной насыпью, параллельно улице. Здесь, в небольших палисадниках за металлическими оградами, растут кусты сирени, а зеленые клинки ирисов настырно тянутся из весенней земли. Среди трехэтажных доходных домов разбросаны обшарпанные односемейные домики. На улице одни дворники. Рабочие уже ушли на заводы, а чиновники только просыпаются. Привратник из третьего дома, клацая зубами, метет улицу. Ему холодно этим ранним весенним утром, солнце еще не греет, к тому же он всю ночь не спал, а, закрыв глаза, прислушивался к каждому шороху. Накануне вечером к нему заявились два вооруженных фашиста в штатском, они и сейчас в его квартире, привратник чувствует: фашисты наблюдают за ним. Из окна подвала видны его ноги, если он попытается отойти подальше, те сразу заметят. Обычно улицу подметает его жена, сам он в эти часы уже на заводе, там, за железнодорожной насыпью. Но сегодня ему запретили уходить из дома, фашистам наплевать, что он может лишиться куска хлеба. И еще ему нельзя разговаривать. Да и не с кем. Разве что с дворником из пятого дома, который тоже метет улицу?.. Возможно, это он подослал к нему фашистов. Сегодня они даже не пожелали друг другу доброго утра. Да и к чему? Утро, которое для одного из них будет добрым, для другого станет худым… Что ему делать, если человек, которого ждут фашисты, сейчас появится на улице? Подать ему знак? Тогда первая пуля достанется ему самому. Не подавать знака? Позволить, чтобы тот попал в ловушку? Этого нельзя, невозможно допустить. Броситься к нему и вместе попытаться спастись бегством? Но за это поплатятся жена и ребенок… Привратника бьет озноб, он старается побыстрее подмести тротуар и радуется, что можно вернуться домой, — будь что будет. А тот, кого ждут в квартире дворника, уже два дня находится в этом доме. На втором этаже, в квартире вдовы, владелицы табачной лавки. Он вместе с ее сыном-студентом рассматривает карту, а на карте — их улицу и дом. Улица идет параллельно окружной дороге и пересекает ее в том месте, где дорога сворачивает направо, к северу. Надо перебраться через насыпь, за ней тянутся заводы, лачуги, бараки, сдающиеся внаем, трухлявые деревянные заборы, пустыри… Там — жизнь. «Лучше всего в этом месте, — показывает на карте юноша. — Заросли, пустыри. Отсюда метров восемьсот…»Восемь часов утра. У домов, выходящих окнами на север, появились узкие полоски тени. По освещенной солнцем улице шествуют в сторону трамвайной остановки чиновники в лоснящихся отутюженных костюмах и начищенных до блеска ботинках. Из домика № 8, в котором живет печник, выпорхнула девушка и заспешила в контору. Она служит машинисткой. В своем модном наряде она словно парит над прохладной улицей. С первого этажа дома № 9 на противоположной стороне на улицу выходит пожилой доктор, он держит путь к своим больным на окраину, в руках у него черный продолговатый саквояж. На его лысой макушке блестят солнечные лучи.
Тени от домов, выходящих окнами на север, уже наполовину закрыли улицу. Хозяйки и служанки закончили уборку. Они сняли с окон проветрившееся постельное белье и теперь собираются на рынок. Торопиться им некуда. Обед они просто подогревают, настоящая стряпня будет к вечеру, когда соберется вся семья.. А вот старый доктор ходит обедать домой. После обеда он полчасика дремлет. Ему это просто необходимо: его частенько будят по ночам. Он — единственный человек, который не пугается, когда ночью звонят в дверь его квартиры. Он привык, его зовут к больным. Ребятишки, возвращающиеся из школы, посреди улицы затеяли игру в футбол тряпичным мячом. Дом № 22 — трехэтажный. Кларнетист уже проснулся. Для начала он, как всегда, бросает взгляд на часы, лежащие на тумбочке. Но часы остановились, он опять забыл их завести. Кларнетист встает на колени и, раздвинув портьеры, выглядывает на улицу. Тени от домов уже стали длинными, люди возвращаются с работы. Пора вставать. Кларнетист выходит на кухню и сует голову под кран. Восемь часов вечера. Кларнетист идет на трамвайную остановку. В домах ужинают. Не ужинают только в квартире привратника из дома № 3. Его жене не разрешили сходить ни в магазин, ни на рынок. Один из «гостей» большим перочинным ножом уписывает прямо так, без хлеба, консервы из банки. Второй — спит на постели хозяев.
Вдова вернулась домой. — Мама, спуститесь вниз к привратнику. А мы в это время… — А что им сказать? Зачем я пришла? — Попросите соли или еще чего-нибудь, что на ум придет. Жена привратника впускает вдову в квартиру. Этого момента ждал преследуемый, в тот же миг он нажимает на ручку двери. Но расчет оказывается неверным. Вдову выдает нервная дрожь, преследователь будит своего напарника. Стемнело. Раскаленные докрасна лампы уличных фонарей только усугубляют черноту кустов. — Стой! Преследуемый одним прыжком перемахивает через забор палисадника и исчезает среди кустов. Но в том месте, где он только что скрылся, из-за угла появляется человек. Это старый доктор… — Стой! Старик уверен: кричат не ему. Ведь он направляется как раз в сторону кричащего. Доктор идет ужинать. Он припозднился, по весне всегда бывает очень много больных. Старый доктор успевает услышать сухой треск. И вот уже он лежит на тротуаре, по которому столько раз проходил на протяжении многих лет. Преследователь подходит к нему. Носком ботинка переворачивает труп. Он догадывается: перед ним не тот, кого он подстерегал. Но теперь это не имеет значения… Фашист возвращается в квартиру привратника. — Есть где-нибудь поблизости телефон? — У врача. Дом номер девять, первый этаж, квартира слева. Несколько перепуганных жителей толпятся у трупа. Все они узнали доктора, но боятся сказать об этом. Один из фашистов поднимается в квартиру врача. — Я хочу позвонить, у меня служебное дело. — Прошу вас. — Перед домом номер двадцать девять… — . . . . . . . . . . . . . . . — Да! Мы можем возвращаться? — . . . . . . . . . . . . — Так точно!
Преследуемый затесался среди зевак. Когда рядом тормозит санитарная карета, все отходят. Преследуемый тоже. Он не может сейчас пройти к пустырю, откуда легко перебраться через железнодорожную насыпь. Поэтому он решает свернуть у ближайшего перекрестка. Он идет спокойно, непринужденно. Волнение его прошло, исчезло, испарилось.
Труп увезли. Преследователи идут по улице. Они страшатся звука собственных шагов. Тычут пистолетами в каждый куст. В один из них убийца выпускает пулю.
Из темных окон люди, зябко поеживаясь, выглядывают на пустую улицу. После грохота выстрела снова наступает тишина. Черная, беззвездная ночь схватила землю за горло. Дворник дома № 5 укладывает вещи. Его могут обвинить в смерти доктора. А если так, за ним придут. Наверняка. В доме № 3 тоже знают это… Пожилая вдова собирает пожитки сына. Она старается сделать сверток поменьше, чтобы он не бросался в глаза. Дочь печника рыдает в истерике: «Дядя доктор, я не пойду, не пойду, никогда больше не пойду туда, где…»
Вдали раздается одиночный выстрел, затем опять наступает тишина. Тьма опечатала улицу. В доме № 34 молодой мужчина привлекает к себе возлюбленную. Они словно навечно слились в объятье. «Единственная моя», — вздыхает мужчина. «Мой единственный», — шепчет женщина. Слезы смешались на их лицах. Среди ужасов, царящих вокруг, связывающая их воедино страсть — святое чувство.
Темнеют кусты. Свет ламп делает их еще чернее. Тьма спокойно ждет, пока рождение рассвета раскроет утробу неба.
— А если у нас будет ребенок? — спрашивает молодая женщина. Мужчина грустно опускает голову.
Старая супруга доктора спокойно спит. Она ждала мужа до полуночи. И даже не прислушивалась к телефонному разговору. Не в первый раз ей приходится ночевать вот так — одной. «Даже лучше, если он вернется домой утром… сейчас такие беспокойные времена…»
Всходит солнце. Дома на улице, тянущейся с востока на запад, не отбрасывают тени.
Перевод С. Фадеева.
На веки веков
Памяти Имре ШаллаиЕще ходят трамваи? Или уже светает, и это первый утренний заскрежетал на повороте? Если так, в нем битком рабочих… Снаружи перед тюрьмой — стена из красного кирпича, длинная кирпичная стена, трамвай вдоль нее тащится долго. Думают ли о нас те, кто едет в нем? Если обо мне сейчас кто-то думает, это здорово… Я свое сделал, они возьмутся заново, они продолжат. Это событие всколыхнет новые слои рабочих, всю страну. В особенности если меня казнят. Молодые гуляки-парни, пожилые отцы семейств, иссохшие, обремененные детьми матери задумаются над тем, почему я здесь. Листовку бы сейчас тиснуть… Только вот достанут ли ребята бумаги?.. Ну-у, совсем зарапортовался! Что уж, без меня и дело не сладится? Ребята сработают не хуже, чем если бы я был сейчас среди них… Ногу бы чуток подтянуть, а то свесилась и болит сильнее. От прилива крови… Через пару дней, вероятно, ничего уже не буду чувствовать… Совсем хорошо станет… Может, хоть теперь прекратят побои… Все равно ведь ничего не добьются… Или это злит их еще больше, им явно не по себе, что не удается сломить меня. Тогда все кончится скорее. Стоит ли терзаться из-за какой-то пары дней? Да и на суд избитым не поведут. Как-никак, а огласки они побаиваются. Скорее бы суд! Ждать. Ждать. Ждать. Ночью уж никто не явится. Только чьи-то шаги гулко отдаются в коридоре. Охранники? А может, опять пришел капитан в цивильном? Этот и молока выдать прикажет, лишь бы я заговорил. Подонок до мозга костей! Не просто измывается, а смакует, да еще корчит из себя невинность. Я же — само спокойствие. Ждать! — Что это за станция? — Конечная! — Запугать партию? — Партию не запугаешь. Меня тоже… Им хочется знать, где размещена типография. Как здорово, что даже я сам этого не знаю. Тут мы толково все придумали. Я всегда говорил: знать надо лишь то, без чего обойтись невозможно. Все прочее — обуза. До прочего любопытны одни филеры… Потому-то Витаг и вызвал у меня подозрение. А вообще-то ничего страшного, если я скажу что-нибудь, если свалюсь без памяти… Бывает, я разговариваю во сне. Но Маришка уверяла, что не разобрать ни слова. Умереть надо стиснув зубы. Сказать только то, что сам хочу. Только то, что для партии будет лозунгом, прощанием, напутственным словом. Например: «Я имел полное право заниматься агитацией». Эти слова придадут смелости колеблющимся. Спокойствие. Спокойствие. Кому как не мне быть в этой стране спокойным! Нет ничего хуже предотъездного ожидания. Глупец тот, кто пытается его продлить. Это в их манере так себя вести, ну, да уж теперь отступятся. Нервы у меня крепкие. Это и экспертиза подтвердила — иначе меня нельзя предавать суду. Тот самый случай, когда они говорят правду, если это в их интересах. О, уже начинаю выдавать сентенции в духе Фери, он у нас мастак по этой части… А держался я недурно. Товарищи будут довольны. Так ли это важно? Придет смерть, и все, конец, точка. Э-эх! Умру, и ничто, ничто не важно? Вернее, так: умру, но это не имеет никакого значения? Нет, смерть тоже приносит пользу. Вот и вывел формулу своей жизни — отчеркнем ее красной чертой. Ну, а если дадут десять лет, и буду сидеть, пока меня не освободит революция? Или только два года? Темпы убыстряются. А может, все пятнадцать? После приговора, видимо, смогу получать книги. Хотя бы технические. Вдруг потом придется руководить крупным предприятием… осушать болота… в пустыне виноград разводить… Прогромыхал трамвай. Все-таки утренний?! Ну, разумеется, он. Трамваем можно выбраться на природу… Во время прогулок нельзя мусорить… Лес надо содержать в чистоте… Трамваем к вокзалу. Оттуда поездом в Москву. Из Москвы в Крым. Там виноград поспеет. У нас его убирают двумя неделями позже… Маришка, дорогая моя… Суд закрытый, но пресса будет его освещать. Само заседание вместе с исполнением приговора займет в общей сложности двадцать четыре часа. Казнят наверняка ночью, а утром газеты сообщат как о свершившемся факте. А может, не станут пороть горячку, чтобы козырнуть тем, как они безнаказанно вешают людей. Верно сами чувствуют шаткость своего положения, коли есть нужда в подобной демонстрации. В таком случае мы недооценили глубины кризиса. Если вас вешают, это в политическом отношении добрый симптом. Рассчитывают запугать, а пожнут бурю. Не мне страшно, а им. Партия жива. Значит, стоило. В селах выкопают из земли спрятанные винтовки. Там коммунистов уже не считают антихристами. Партия крепка. Фразеров как ветром сдуло… Превосходно провернул все это «спокойный Шани». Еще и смену успели тебе подготовить… Нет, стоило! Стоило! Лучшего вожака для молодежи, чем механик Дюси, не придумаешь. В ячейках народ тоже неплохо подобран. Те, из «Непсавы», не зря ведь беснуются. Мы сработали на славу. С этим ясно, а вот как у виселицы?.. Сколько там будет времени? Полуминутная пауза. Вот тогда я и крикну три лозунга: «Да здравствует пролетарская диктатура!», «Да здравствует коммунистический Интернационал!», «Да здравствует Советский Союз!» Рассчитать надо точно. Может, тюремный начальник скажет, каким временем я располагаю. Попрошу в качестве последнего желания. «Камера слез». А кто собирается плакать? Меня оплакивать — это ясно, но не мне же плакать. «Слезы льются проливным дождем». Чудны́е слова. Проливной дождь — ведь это прекрасно. Дыхание травы. И все свершится так, как мне мечталось. Остановка — вот что скверно. Дорога — это хорошо. Великолепная вещь — дорога. Смерть сделает еще весомее дело моей жизни. Надо точно сформулировать свои мысли. Это дает силы жить и умирать. С восемнадцатого года мы беззаветно боремся за идеалы добра, мы из тех, кто настолько страстно любит жизнь, что способен умереть ради нее… Пишта сейчас в Москве. А Дюси? Не исключено, что он бродит где-то рядом, у кирпичной стены. Андраш погиб на фронте. Янош скончался прямо на рабочем месте, Петер тот не подрос пока, Маришка… Маришка была моей женой. Наверное, по горло занята учебой и нервничает в ожидании вестей. Все это пустяки, родная! Взгляни на меня: я спокоен!.. Шахтер задохнулся в штольне. Грузчика придавило ящиком. Кочегар уничтожен горячим паром. Что значит — умереть? Тот шахтер, у которого за спиной взрывается газ, наверное, охотно поменялся бы сейчас со мною местом. Умереть нетрудно, как нетрудно рухнуть вниз камню. И за ту жизнь, какую мне дано было прожить, смерть — вовсе не такая уж высокая плата. Впрочем, я не совсем верно выразился. Что значит «дано» и причем тут «плата»?.. Если бы была возможность бежать… Это воздействовало бы вдохновляюще, как и моя смерть. И партии принесло бы несомненную пользу. О чем пишет сегодняшняя «Правда»? О том, что необходимо увеличить добычу угля. Сейчас это имеет особое значение. Ускорить транспортные перевозки, упорядочить их… Что остается после каждого удара киркой? Бессмертие? Нет, жизнь на веки веков. Для профессионального революционера, если он схвачен и повешен, это — не более чем несчастный случай на производстве. И у него в сравнении с шахтером куда больше времени, чтобы подготовиться к смерти. Восемнадцать лет назад разразилась война. Все восемнадцать лет я, не щадя сил, стремился к добру. Это останется, а мелочи отпадут. Я был неплохим революционером. Обо мне будут помнить. Значит, все это важно? Для меня — нет. Но для тех, кто будет помнить обо мне, — да. «Камера слез». Не для моих слез камера. Но это важно для тех, кто будет мстить за меня, ибо они обретут свободу. Смысл есть и в жизни и в смерти. И никто не властен лишить меня смысла моей жизни. Стоит только закрыть глаза, и можно видеть то, что хочу, идти, куда пожелаю. Да и к чему закрывать глаза… Я и так знаю то, что знаю. И что же, потом ничего уже не будет?.. Плоть моя разрушится. А что тут плохого? Я был сильным. И не только я один. Тот, самый юный из нас, рабочий, тоже ведь держался молодцом. Я всегда немного гордился своей несгибаемостью. Здесь это пригодилось. Легче перенес эти дни. Был спокоен перед лицом врага. Листок с адресами я успел проглотить. Об этих адресах Витаг ничего не знал. Как же ему должно быть стыдно, этому мерзавцу. Его тоже осудят на годок-другой, чтобы потом использовать как шпика. Но там, на воле, конечно же, раскусили, что только он мог навести полицию на след Фери… Прекрасно, что мне удалось тщательно обособить друг от друга все наши действующие организации. В тупой башке Витага сшиблось теперь все разом — стыд, раскаяние, злорадство. Он пытается уверить себя, будто ему хорошо, потому что он останется жить, а мне плохо, потому что я умру. Но легче уж умереть, чем жить как он. Хотя я по-прежнему за жизнь… Пусть видят, как умирает коммунист, член партии с восемнадцатого года. Нет, это не тщеславие, но так легче. Разве бы я мог жить, если бы не был способен мужественно умереть. Мужественно? Все просто. Просто потому, что так необходимо партии, так нужно мне самому, так полагается жить. На сегодня хватит, надо поспать. Завтра поутру отработаю каждую фразу речи для процесса. Все четко. Один — развернутый вариант, если дадут говорить. И более сжатый, если ограничат время. Затем — то, что я выкрикну под виселицей. Это все на утро. После полудня — отдых, чтобы привести нервы в порядок. А теперь спа-а-ть… Трамваи пошли уже чаще… Трех часов на сон довольно. А в ночь перед процессом высплюсь как следует… В Крыму уже хлеб сжали…
Перевод В. Ельцова-Васильева.
Дорога строится
Штормовка из грубой парусины, сапоги с голенищами выше колен, за спиной рюкзак, на голове свисающий из-под полей шляпы накомарник, в руке топор. Так выглядят трое мужчин, пробирающихся по лесной чащобе. Один уже в годах, с бородой, рядом — молодой кряжистый парень в очках; они вдвоем тащат теодолит. Третий несет красно-белые полосатые рейки; он шагает впереди. Они идут, продираясь сквозь заросли кустарника, месят чавкающую болотную грязь, ползком перебираются по лесоповалу через ручьи, переплывают реки в надувных лодках, а то и на плоту, сбитом на скорую руку. Делают замеры, оставляя зарубки на стволах деревьев. Пока двое возятся с теодолитом, а третий стоит и вертикально держит полосатую рейку, топоры у всех заткнуты сзади за пояс. Затем они снова берутся за топоры и засекают отметины. Там, где они прошли, темные и золотисто-медовые стволы деревьев источают из своих ран смоляные слезы. Из примятой сапогом травы кверху взмывают потревоженные комары. Качнется задетая плечом ветка, и вот уже тучей роится мошкара, облепляет со всех сторон, отыскивает лазейки под накомарником, забивает глаза, ноздри, проникает под рубашку. Кожа горит, зудит от укусов, соленого пота и слез, разъедающих ранки. Люди раздражены, свербит жаждущее воды тело, заросшие щетиной лица перемазаны кровью — своей и раздавленных мучителей. Стоит кому-то из троих скрыться из виду, как тут же раздается дружное ауканье. Отыскавшегося встречают крепким словцом. Пока двое заняты своим хрупким прибором, помогая себе все теми же отборными словечками, третий стоит, нервно переминаясь с ноги на ногу, и держит свою рейку. Можно подумать, что эти трое вот-вот схватятся друг с другом. Продубленные их лица искажены злостью, они то и дело срываются на крик, сменяющийся глухим ворчаньем, — им хочется казаться грубее и суровее, чем это есть на самом деле. Под вечер, когда в лесу стремительно опускается темень, они скидывают на землю свои заплечные мешки. Снова топоры в работе — рубится валежник для костра. Вспыхивает огонь, сверху навешивается котелок, и, пока варится ужин, ощущение усталости притупляется от сознания того, какой огромный пройден путь. За ужином тот, что постарше, вынимает из бумажника фотокарточки: «Мои ребята». За ним и молодой очкарик показывает фотографию: «Мама». Оба ждут, чтобы показал и третий, но у того карточек нет; он отделывается кивком головы и добавляет: «Спать пора». Молодой парень, будто только этого и ждал, вытаскивает из мешка свитер, натягивает на себя и не мешкая устраивается поближе к огню. Но его останавливает старшой, тот, что весь день таскал на себе рейки: «Эдак дело не пойдет!» Он берет топор, споро нарубает разлапистых еловых веток, подтаскивает их к костру. Взявши палку, он разгребает в стороны раскаленные головешки, деля их на две кучки, затем густой еловой веткой сметает остатки золы. На расчищенное место укладывает охапку свеженарубленного ельника, поверх расстилает одеяло из грубого солдатского сукна. — Живо раздеваться! Из одежды сооружается изголовье. Два других одеяла и штормовки — служат общим укрытием, и вот уже все трое лежат под ними, тесно придвинувшись друг к другу. — Из местных будешь? — спрашивает тот, что постарше. — Не-е… — Выходит, из старателей? — подключается молодой очкарик. — Кабы оно так… — Охотой промышляешь? — не унимается тот. — Тоже бывает. — Что значит «тоже»? — А то, что и поохотиться не мешает. — А все же, если не секрет, конечно, — подает голос пожилой, — занятье-то у тебя какое? — Пекарь. — Чего же тебя нелегкая носит вместе с нами? — Оттого, что у пекаря ноги всегда в холоде, а голове жарко. — А верно, что фамилия у тебя Неищи? — Именно: Неищи! Разговор смолкает. Бывший пекарь встает, еще раз подбрасывает сучьев в оба костра, снова ложится. Все трое мостятся поудобнее, жмутся друг к другу. Складки на лицах разглаживаются, наступает сон.Рассвет росистый, волглый. Они просыпаются озябшие, с тяжестью в теле. Торопливо приводят себя в порядок, гасят огонь, мрачные трогаются в путь. На месте ночевки остаются обглоданные кости, обрывки бумаги. Постукивание топоров отдаляется. Стоянкой завладевают муравьи. Они облепляют, вычищают, превращают в невидимое то, что оставлено людьми. Только на деревьях плачут смолой знаки-отметины.
Множество народу движется по следам этих отметин, исходящих смоляными слезами. Истошно воют пилы, звучит перебранка топоров, вздыхают строевые деревья-пеликаны, с грозным уханьем валятся на землю, на которой им так покойно жилось. Разбегается зверье. Поскрипывают тачки. Грохочут, скатываясь вниз, камни. Люди обливаются потом, когда стоит безветренный летний зной. И зимой тоже обливаются потом. Ноги закоченели, а рубаху хоть выжимай, на лице тают снежные хлопья. Чуть остановишься — вмиг под носом нарастают сосульки, индевеет небритая щетина, и вот уже все тело бьет озноб. Тут уж не до роздыха. Запыхался, сердце колотится у самого горла, а останавливаться никак нельзя, знай себе маши топором да кати тачку. И весной обливаются потом люди, когда пила вязнет в пропитанной смолой древесине, когда береза извергает из себя студеный сок, и его можно пить не отрываясь, долго-долго. Потеют осенью, когда не останавливаясь бредут по трясине и одежда преет от бесконечных ливней. Спиленное дерево, погибая, может отомстить, нанести в падении ответный удар: позвоночник превращен в бесформенную массу, хрустнет раздробленная берцовая кость. А то и обрубленная ветка отлетит в сторону… и ненароком угодит по лбу. Но людям, словно муравьям, несть числа, и стоит обильному дождю пролиться, как уже и кровь смыта. Довольно одного колечка дыма от закуренной сигареты, и страха как не бывало; и стаканчика чего-нибудь покрепче тоже за глаза хватит, чтобы пустить по ветру все заработанное своим горбом. Горестный стон падающего дерева тонет в раскатах взрывов, сотрясающих землю. И вот уже деревья, меченные белыми знаками, мирно покоятся вдоль просеки, которая напоминает полосу, простриженную огромной парикмахерской машинкой в гуще земных волос. Тянется длинный-предлинный след: то сбегает вниз в распадок, то карабкается по склону вверх. По обочинам дороги в землю вкопаны столбы из спиленных и обтесанных деревьев. Эти уже навечно распрощались со своими собратьями, стоят донага раздетые. Разве что кое у кого на самой макушке нет-нет да и мелькнет чудом уцелевшая ветка с зеленым листком. Землю обстригают машины. Из ковша экскаватора сыплются камни, мелкий гравий. Машины сбривают бугры, заваливают впадины и ямы. Полотно дороги постепенно выравнивается. У дорожного строителя тело — сущая благодать для вшей. Невесть откуда и берутся, зато плодятся от живой человеческой крови. Вечерами вместо отдыха люди раскаливают в костре камни и на них жарят своих истязателей. Точно при сожжении ведьм: с неистовым наслаждением ловят момент, когда начнут потрескивать гибнущие насекомые, и при этом творят свои молитвы в бога, в душу мать. По вечерам бывший пекарь стрижет людям волосы и бороды. Теперь можно и на покой; люди засыпают, и тут становится видно, что все они рождены матерью. Бывает, что из незагашенных кострищ расползаются, припадая к земле, хоронясь в пожухлых осенних травах, огненные змеи. Потом они взвиваются ввысь, и вот уже тысячами пылают деревья, как гигантские огненные столбы, упирающиеся в поднебесье. Когда горящие деревья рушатся друг на друга, пламя взметается еще выше. Треск огненного шквала, шум падающих деревьев заглушает все звуки человеческого труда. В одной руке у пекаря топор, в другой срубленная ветка. Он, как и все прочие, рубит, хлещет направо и налево, стараясь сбить ползущий по земле огонь. Чтобы остановить пламя, выкапываются рвы. Огонь отступает, гоня перед собой зверя и птицу. По сторонам дороги остается обугленный, онемевший лес.
За лесорубами и дорожными строителями по проложенной ими дороге катят полевые кухни, передвижные санпропускники и медпункты. А с ними — повара, врачи, фельдшера, медсестры, уборщицы. Вши оказываются под микроскопом: выглядят они похлеще искусителей святого Антония, пострашнее самого кошмарного призрака. Раненых людей лечат по всем правилам. Кому деревом отдавило ногу, получает деревянный костыль. Машина роет выемку под фундамент — рядом с дорогой на месте гари возводится город, а еще и завод. Меж тем походные палатки и полевые кухни движутся все дальше и дальше по дороге. Там, где шагает пекарь, еще валят деревья, и одно из них, падая, задевает его. Два товарища выносят его на носилках из леса, устраивают сначала на повозке, потом переносят в машину. Машина везет пекаря по готовой уже дороге в больницу строящегося города. ...
Все права на текст принадлежат автору: Йожеф Лендел.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Скачать или читать эту книгу на КулЛиб
Скачать или читать эту книгу на КулЛиб