Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
Сергей Синякин Поезд в один конец (сборник)
© ГБУК «Издатель», 2013 © Синякин С. Н., 2013* * *
Грустные сказки
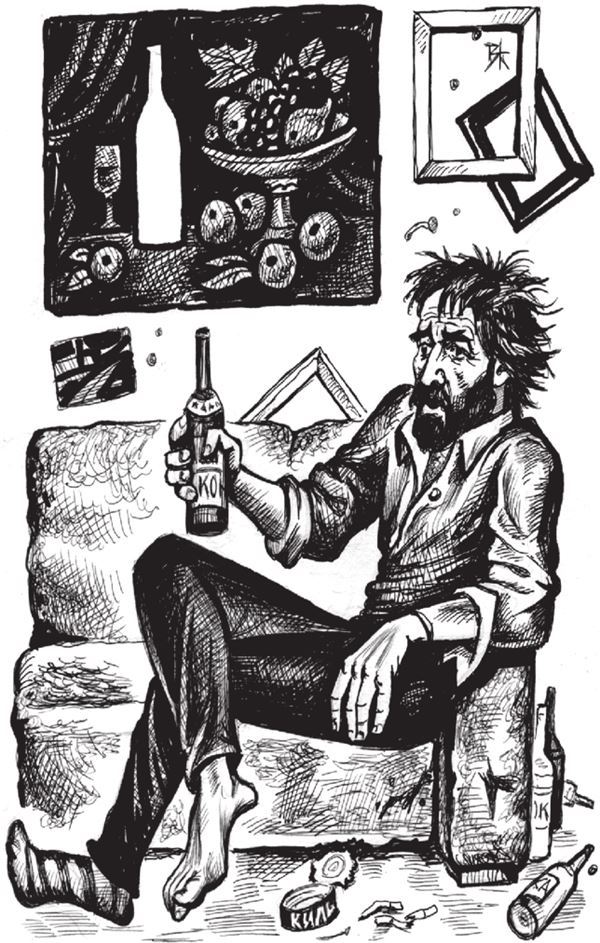
Кисть и краски Маленькая повесть с большими преувеличениями
Глава первая
Когда ушли гости, Гоша Минин не помнил. Сам он открыл глаза около одиннадцати и обнаружил, что лежит на продавленном диване и накрыт старым плащом, источавшим запах пыли. Рядом лежала куча какой-то одежды. Кажется, даже что-то женское валялось. Мастерская напоминала поле боя, с которого еще не убрали подбитые и сгоревшие танки. Гоша сел на диване, с ненавистью разглядывая пустые бутылки и остатки пиршества. Все это предстояло убирать. А кто еще будет убираться в его собственной мастерской? Хотелось пить. И не только. Страшно было представить, что небольшая компания оказалась способна выпить такое количество спиртного. Гоша насчитал три бутылки из-под коньяка, две из-под водки и пять из-под шампанского. И это не считая пива! Он встал, чувствуя, как дрожат ноги. Да что ноги! Все тело дрожало и желало немедленно поправить здоровье. Гоша подошел к столу и с досадой убедился в том, что все бутылки пусты. Он едва не застонал от отчаяния. Деньги еще оставались, но ведь это идти надо было! На стене висела одна из его любимых картин «Печальный натюрморт». Натюрморт изображал початую бутылку молдавского коньяка, раскрытую и поломанную на неровные кусочки плитку шоколада и несколько яблок с бананами в широкой вазе. Картина была написана так, что зрителю сразу становилось ясным — хозяин к столу не придет. Гоша постоял, тупо разглядывая картину. Голова раскалывалась. Уже не соображая, что он делает, Гоша протянул руку к картине, взял из нее бутылку коньяку, подумав, выбрал самое румяное яблоко и вернулся к столу. Коньяк пряно обжег внутренности. Неприятный привкус во рту пропал. Голова, правда, еще болела, но это казалось временным явлением, Гоша уже чувствовал, как с каждым глотком к нему приходит желание жить заново. Бросить свою пошлую и пакостную жизнь и начать все заново. Он выпил еще, налил в пустой стакан и отправился к дивану, чувствуя, как стихает боль в затылке. Стало хорошо. Он сел на диван, задумчиво оглядывая мастерскую, словно прикидывал, с чего ему начать свою новую жизнь. Сделал еще один небольшой глоток, и тут до него дошло… В два шага он оказался около картины. Композиционная основа натюрморта — бутылка коньяка исчезла. Вместо плитки шоколада и яблока на картине белели пустые пятна. С ужасом и восторгом Гоша Минин разглядывал картину, отхлебывая из стакана коньяк, налитый из бутылки, нарисованной им самим. Он протянул руку, чтобы взять еще одно яблоко, но пальцы наткнулись на неровные мазки краски. Картина была написана маслом, с нее невозможно было что-то взять. Просто невозможно! Гоша вернулся к столу, оглядел бутылку. Коньяка в ней оказалось чуть больше половины, этикетка желтела тоже самая обычная, молдавский «Белый аист», а шоколад, наломанный прямо в серебряной фольге, оказался вполне привычным, изготовленным на кондитерской фабрике имени Бабаева. Гоша сел на стул, взял в руки яблоко, понюхал его. Яблоко тоже оказалось обычным — глянцевое, желто-красное, оно и пахло яблоком. Помнится, пришлось долго выбирать яблоки на базаре, чтоб они вписывались в задуманную цветовую гамму. Но сейчас… Он разрезал яблоко на несколько долек, сунул одну в рот. Обычное яблоко — сочное, сладковато-кислое, ничего особенного в нем не было. На диване кто-то завозился. Гоша обернулся. На диване, свесив голые стройные ножки, сидела смазливая девочка лет семнадцати, задорно курносая и с рыжей челкой. — Привет, — хрипловатым со сна голосом сказало юное создание. — Выпить есть? Девочка прошлепала босыми ногами по линолеуму, уселась рядом и плеснула в ближайший к ней пустой стакан коньяку. Она была без юбки, и узенькая полоска трусиков наводила на грешные мысли. — Вообще-то ты жуткий свин, — сказала она. — Храпишь, как конь. На женщин внимания не обращаешь. Пьешь вот в одного. — Ты кто? — Гоша вгляделся в ее тронутое конопушками лицо и не вспомнил. — Здрасьте! — девочка залпом выпила. — А кто мне вчера весь вечер в любви объяснялся? — Не помню, — искренне сказал Гоша. — Нет, серьезно, зовут тебя как? — Викой, Викой меня зовут! — уже немного сердито сказала девочка. — Вот, блин, вчера руки целовал, портрет написать грозился, а сегодня и не помнишь ничего. Может, тебе память отшибло? Ты вчера лбом о шкаф так долбанулся, что дверца с петель слетела. Ты что, и в самом деле ничего не помнишь? Гоша уныло помотал головой. — Вот, блин, — сказала девочка. — Говорила мне мама, никогда не связывайся с художниками, поэтами и футбольными фанатами — от них одни неприятности. Ты же меня рисовать собирался. Хочешь меня нарисовать? — Пожалуй, что нет, — сказал Гоша. — А трахнуть? — спросила Вика и призывно облизала губы. Не иначе третьесортных американских фильмов насмотрелась. — Лучше помоги убраться, — мрачно сказал Гоша. — Нет, больше ни одной пьянки в мастерской. Придут, нагадят, а убираться всегда хозяину. Ворчал он больше по привычке, не в первый раз такое происходило, и каждый раз Гоша зарекался выпивать в мастерской. Вика встала и пошла к дивану. Выдернув из кучи тряпок, под которыми они спали, короткую юбочку, девочка принялась деловито надевать ее. — У тебя вода-то есть? — спросила она. Сам бы Гоша убирался дня три, докуривая чужие бычки, а женщина сделала все за час, и при этом не просто сделала, а убралась капитально, даже линолеум протерла тряпкой, отчего в мастерской все заблестело, словно и в самом деле чисто было. Пока она убиралась, Гоша пытался честно вспомнить, было у него с этой самой Викой что-нибудь такое ночью, но так и не вспомнил. — Ты мне выпить оставил? — спросила Вика, возвращаясь за стол. Они разговорились. Девочка училась в физкультурном институте и оказалась немного старше, чем выглядела. Двадцать два ей недавно исполнилось. И ничего у них ночью не было, они даже легли сначала в разных местах, только ночью Вике стало холодно, вот она и перебралась на диван, чтобы согреться немного. — Только ты даже не проснулся, — сказала Вика. — Блин, юбку с меня стянул, сунул ее себе под голову и снова стал хоря давить. А храпишь ты, Минин, жутко! Я уж тебя и щипала, и пинала, и носок под нос совала — бесполезняк! Коньяк-то откуда? Я вчера, когда замерзла, все облазила и ни фига не нашла. — Из заначки, — сказал Гоша и вновь вспомнил происхождение коньяка. Возбужденно вскочил, стал осматривать натюрморт. Все оставалось по-прежнему на картине: три белых пятна разной формы там, где стояла бутылка, где лежал шоколад и круглое белое пятно в вазе с яблоками. — Слушай, — сказала из-за спины девочка Вика. — Это так задумано или ты просто недорисовал? — Слушай, — сказал Гоша. — Ты всегда так много говоришь? — Могу и помолчать, — обиженно сказала девочка. Подумала и предложила: — Пошли на диван? Около двух она ушла. Перед этим долго возилась у зеркала, доставая из косметички разную косметику, чтобы разрисовать лицо. Посмотрела на себя в зеркало, хихикнула довольно, подошла к Гоше и чмокнула его в нос. — Вообще-то ты ничего, — довольно сказала она. — А то ведь я даже подумала, мама дорогая, импотент попался. А ты прям виагра какая-то! Сильвестр Сталлоне[1] до Голливуда! Не скучай, я через денек забегу, завтра не могу, мне экзамен по спортивной психологии сдавать! Гоша лег на диван, слушая, как стучат ее каблучки по каменным ступенькам узкой лестницы, ведущей в подъезд. Кажется, Вика даже напевала. А что, все нормально, ночь погудела в веселой компании, утречком любовью позанималась, психологическую разгрузку себе устроила, можно и экзамен идти сдавать. И все-таки как это произошло? Нет, не Викой, с ней все ясно было, нормальная девчонка, которая борется со скукой всеми доступными ей методами. А вот как он сумел взять коньяк с картины? Гоша подошел к висящему на стене натюрморту, поковырял пальцем краску. А может, все это ему только привиделось? Нельзя ведь взять из картины коньяк, да еще пить его на пару с девушкой, закусывая нарисованным шоколадом! Бред! Расскажи такое кому-нибудь — обсмеют! И тут он почувствовал, что в мастерской пахнет маками. Густой такой стоял запах, словно поле рядом цвело. И Гоша Минин знал, что это за поле. Рядом с натюрмортом на стене весела картина, которая так и называлась «Мак цветет». Большое поле цветущих красных маков. Мечта наркомана. И Гоше вдруг так захотелось погулять по цветущему лугу! Он подошел к картине. На картине был луг, полный цветущих огромных маков. Дальше зеленела полоска леса и возвышались зеленые горы Тянь-Шаня. Красивая была картина, причем нарисована с натуры. Помнится, в тот год Саня Климан отправился на заготовки. Он с друзьями часто на них отправлялся — то в Чуйскую долину, то на Тянь-Шань. В этот раз он и Гошу поехать уговорил. Красота горных долин так поразила Минина, что он написал пять или шесть картин, из которых оставил себе лишь эту, с цветущим маком. Остальные были довольно удачно проданы на Аллее Борцов в центре Царицына, где по традиции выставлялись живописцы и мастера народного промысла, а также продавали свои самиздатовские сборники непризнанные поэты. Сейчас, глядя на свою картину, Гоша ощущал прохладный ветерок, который доносил густой запах мака. Захотелось прогуляться по лугу. Желание было столь нестерпимым, что Гоша, глупо наклонившись, чтобы не зацепить об обрез голову, сунулся в картину. Тело ощутило пустоту, и он полетел на прохладную траву, а когда встал, то обнаружил, что стоит на лугу в окружении цветущих маков, а в воздухе был прорезан прямоугольник размером с картину, и в этом прямоугольнике просматривалась его собственная мастерская с продавленным диваном, длинным столом и висящими на стенах картинами. Вот так, значит! Он восторженно вздохнул. Оказывается, надо было захотеть. Очень сильно захотеть и все. Он неторопливо побрел по маковому полю, потом наклонился, сорвал красный цветок, понюхал его. — Мужик! — окликнули его. — Ты чего здесь ходишь? Он обернулся. На опушке ближнего леска стояли два здоровяка, подозрительно рассматривая его. У одного за плечами торчал ствол автомата. — Я спрашиваю, ты чего здесь вынюхиваешь? — Красиво, — сказал Минин. Здоровяки заржали. Потом один из них негромко сказал другому: — Я же говорю, наведет он на нас ментов. Или сам мент. Под дурака косит. Слышь, мужик, — приказал он, — иди сюда! — Гапон, — вдруг сказал второй здоровяк, — а я его знаю. Помнишь, в прошлом году одна шустрая компания у нас половину поля оборвала? Гадом буду, он в той компании тусовался! Гоша почувствовал недоброе. Бросив смятый цветок, он сделал несколько шагов от охранников поля. — Греби сюда! — рявкнул второй здоровяк и потянул с плеча автомат. — Спокойнее, Гапон, спокойнее, — сказал его товарищ. — Не пали, шума много будет. Ну ты сам посмотри, куда этот хиляк денется? И тогда Гоша побежал. Сзади заулюлюкали, затопали, но Минин не оглядывался, он точно знал, оглянется — пропадет. И успел. Схватился за обрез картины, выпрыгнул в мастерскую с трясущимися руками, пересохшим ртом и безумным взглядом: — А если и здесь найдут? Торопливо перевернул картину рисунком к стене. Пусть отражается! Не станут же они себе лбы о бетон расшибать! Коньяка в бутылке оставалось немного, хватило всего на глоток, но и этого было достаточно, чтобы прийти в себя. Через некоторое время Гоша уже улыбался, мысленно прикидывая открывающиеся перспективы. Надо было только очень сильно захотеть. И быть осторожным.Глава вторая
Домой Гоша Минин ходил неохотно. Была бы его воля, он так бы и жил в мастерской. А что там делать, в пустой квартире? После того как умерла мать, квартира вообще казалась Гоше чужой. И жрать дома постоянно нечего было. Откроешь холодильник, почешешь темя и пойдешь на кухню пить чай без сахара. Но сейчас он был при деньгах, два пейзажа выгодно продал, поэтому накупил в магазине всяких вкусностей, едва ручки у кулька не отрывались, и пошел через сквер домой — так ближе. В почтовом ящике лежала открытка от устроителей какой-то выставки в Саратове. Гоше предлагали выставить свои работы, но это значило, что провоз картин пришлось бы оплачивать из своего кармана и охрану их обеспечивать тоже. Поэтому Минин только поглазел на цветную картинку, порадовался за родную российскую полиграфию, которая стала работать на порядок выше, чем в прежние времена, и сунул открытку в кулек с продуктами. В лифте как всегда пол чернел от шелухи семечек, кнопка седьмого этажа была оплавленной, а на стене шкодливая рука изобразила лозунг: «Да здравствуют скинхеды всех стран и народов!», а под лозунгом чернел невнятный рисунок: не то скины любовью стоя занимались, не то пытались построиться в одну шеренгу и теперь выясняли, кто из них выше. В двери белела записка. Оказывается, еще вчера приходил Соломон Георгиевич Гоц, которому Минин вот уже полгода должен был пятьсот баксов. Соломон Георгиевич в самых учтивых выражениях, имеющихся в его родном языке (в переводе, разумеется!), укорял Гошу в забывчивости и недержании слова, а в P. S. простыми русскими словами объяснял, что он сделает, если Гоша не отдаст долг до конца недели. От этого записка Гоца напоминала знаменитое письмо запорожских казаков турецкому султану, но в отличие от них Соломон Георгиевич не шутил: он, если чего и обещал, всегда выполнял в указанные им сроки и со всей добросовестностью. Гоша вошел в пустой гулкий коридор, ремонтом которого мечтал заняться вот уже третий год, прошел на кухню, поставил кулек на стол, включил стоящий на холодильнике портативный телевизор. Показывали новости. Ничего особенного не случилось, только в Москве какие-то художники устроили антирелигиозную выставку: ну, там, Мария Магдалина с Иисусом, опять же Христос с бичом в руках изгоняет торгашей из храма, распятие с Адольфом Гитлером, а рядом такое же — но с распятым Сталиным, и другие штучки в том же духе. Верующие, конечно, возмутились, их инициативная группа пришла на выставку и пронесла несколько ведер краски, начали все обливать краской, художники вступились за свои творения. В общем, славная получилась заварушка, кому-то в ней проломили голову, еще одному сломали руку сразу в трех местах, милиция, разумеется, вмешалась, отчего количество пострадавших сразу удвоилось. После этого Минин почему-то сразу вспомнил угрозы Соломона Георгиевича и пошел в коридор, чтобы позвонить ему по телефону. Соломон Георгиевич конечно же его звонку очень обрадовался, начал уверять, что всегда считал Гошу Минина глубоко порядочным человеком, а на некоторые лишенные политкорректности обороты из своей записки просил не обращать внимания, потому что уже второй день страдает повышенным давлением и оттого стал излишне раздражительным. Потом осведомился, когда сможет забрать свои деньги. — Да хоть сейчас! — сказал Гоша. — Прямо сейчас? — с некоторым сомнением переспросил Соломон Георгиевич. — Да и в самом деле, зачем откладывать, если возможность появилась. Ждите, Гошенька, через полчасика я уже буду у вас. Гоша даже успел перекусить. Соломон Георгиевич вошел в квартиру веселый, оживленный, доброжелательный, в шикарном костюме. — Гоша, Гоша, — с легкой укоризной сказал он. — Вечно вы пропадаете, исчезаете неизвестно куда, заставляете людей волноваться и переживать за вас. Где вы были, Гоша? Чем занимались? Минин достал деньги. — Должок, Соломон Георгиевич, — сказал он. — как говорится, долги вещь священная, а долг другу — вдвойне. Гоц взмахнул рукой, словно хотел укорить хозяина в излишней меркантильности, но странное дело — именно в этот момент деньги перешли к нему, и Соломон Георгиевич небрежно сунул доллары в нагрудный карман. — Собственно, это мелочи, — Соломон Гоц улыбнулся. — Но где вы пропадали? — Так, — небрежно сказал Минин. — Была одна шабашка. Ничего интересного, но хорошо заплатили. Выпьете, Соломон Георгиевич? — Вы это мне? — Соломон Георгиевич взмахнул руками. — Гошенька, вы же знаете, что я уже пятый год не брал в рот спиртного! Это же медленная смерть, дорогой мой. Я уже не в том возрасте, чтобы пить все, что предложат. — Он взял в руки бутылку, посмотрел на этикетку. — Что же, неплохой коньяк. Вы не поверите, одно время «Белый аист» стал такой дрянью, словно крепкий чай разбавляли некачественным спиртом. А сейчас весьма, весьма… У вас рюмочка найдется? Только не стакан, — он испуганно взмахнул руками. — Что вы, дорогой мой, разве можно пить хороший коньяк из стакана! — он сделал глоток, посмаковал напиток. — Да, весьма, весьма, молдаване научились ценить свое достоинство. — Поставив рюмку, посмотрел на часы. — Дорогой мой, я прошу вас великодушно меня извинить, но сами понимаете — дела, дела! Придется вам пьянствовать в одиночку, только не увлекайтесь, Гоша, неумеренное употребление спиртных напитков может весьма и весьма повредить здоровью человека. А вы еще так молоды! Проводив Соломона Георгиевича, Гоша испытал облегчение. До вечера он бездельничал. Телефон не трезвонил, как это бывало в другие дни, в двери никто не ломился. Словно мир забыл о существовании Минина, и Гоша был благодарен миру за это. Он посмотрел телевизор, но это скоро наскучило. Гоша старательно отгонял от себя мысль о случившемся утром, но попробуйте не думать о том, что потрясло вас и было фантастически невероятным. Ну, представьте себе, что вы беседовали с инопланетянином, а теперь стараетесь не вспоминать об этой встрече. Бьюсь об заклад, что у вас ничего не получится. Хотелось поскорее узнать пределы открывшихся возможностей. Гоша повозился на диване, потом приблизился к телевизору и попытался проникнуть за экран, но ничего хорошего из этого не получилось. Становилось очевидным, что возможности были ограничены, возможно, картинами, и, что еще более вероятно, теми картинами, что написал он сам. Но чем больше Гоша Минин думал об этом, тем большие сомнения он испытывал. Возможно, все это было лишь фантазией, рожденной пьяным воображением. Проверить все это можно было только одним способом. В двадцать часов десять минут Гоша Минин открыл двери своей мастерской.Глава третья
В двадцать часов двадцать семь минут он прыгнул в картину. Здесь было величавое спокойствие. Дул ветерок, пригибая ковыль, светило солнце, под солнцем золотилось бескрайное пшеничное поле. На краю поля застыл рыжий комбайн. Рядом на небольшом пригорке стоял хмурый мужчина в спецовке и, согнув руку козырьком, вглядывался в горизонт, к которому уходила проселочная дорога. — Э-э… здравствуйте, — выдавил от неожиданности Гоша. Комбайнера он немного знал. Он сам его рисовал к выставке тысяча девятьсот восемьдесят пятого года. Он прозвал его Иваном Ивановичем, а сама картина называлась «В ожидании запчастей». Иван Иванович хмуро глянул на него, что-то буркнул себе под нос и снова уставился вдаль. — Запчасти ждете? — успокаивая рвущееся от восторга дыхание, спросил Минин. Иван Иванович снова подозрительно посмотрел на него. — Тебе-то что? — спросил он. — Из района, что ли? — Да художник я, — сказал Гоша. — Я же вас рисовал, помните? Иван Иванович вгляделся еще внимательнее и скупо улыбнулся. — Точно, художник. — И пожаловался: — Третий час этих козлов жду. Поехали на мотоцикле и с концами. — За запчастями? — снова спросил художник. Иван Иванович печально засмеялся. — Где их брать, эти запчасти? «Сельхозтехнику» развалили, управление вообще на ладан дышит. За водкой они поехали, мил человек, за водкой! И тут где-то вдали затарахтел мотор и показался легонький пыльный смерч, который медленно приближался. — Едут, — одобрительно сказал Иван Иванович и повернулся к Минину: — Ну что, художник, присядешь с нами? Вообще-то в хорошей компании можно было и посидеть. Гоша остался. И проснулся глухой ночью на диване своей мастерской. Как он выбрался из картины, Гоша не помнил. Из освещенного прямоугольника картины слышалась пьяная песня. Там светила луна, освещая нетронутое пшеничное поле и стоящий на прежнем месте комбайн. Компании не было видно. Наверное, за комбайном укрылись. Гоша прошел по мастерской, ступая по холодному линолеуму ногами в носках. Хотелось пить. Как-то незаметно Минин оказался рядом с незнакомой ему картиной, мерцавшей зеленоватым цветом. Картина явно была не из его мастерской. Он осторожно заглянул в нее и увидел страшного зеленоватого вурдалака, который ответно глянул на него с интересом и ожиданием. Гоша почувствовал сухость во рту и слабость в ногах, захотелось броситься на диван и прикрыться подушкой. Но диван был далеко, а подушки на нем и вовсе не было. — Мня… — растерянно сказал художник. И понял, что смотрится в зеркало. Вот так люди и рождаются во второй раз — с облегчением и обретением душевного равновесия. Рядом с зеркалом висела еще одна картина Минина. Из нее слышался задорный смех и плеск воды. В картине купались женщины. Купались и разговаривали между собой. — А я тебе так скажу, — окая, сказала одна из купальщиц. — Пута-нить — тоже работа, причем высокооплачиваемая. Зря ты Зойку хаешь. Ты на себя посмотри — баба красивая, а ведь сохнешь, вянешь и пропадаешь в нашей Бурчаловке. А Зойка молодец, она и денежки заработает, и натрахается в свое удовольствие. А ты будешь горбиться да бумажную пыль глотать в своей библиотеке за семьсот рэ. Минин вспомнил картину. «Старшеклассницы на пруду» она называлась. Нет, местечко было отличное, композиционно выстроенное, и вода в пруду, наверное, теплая. Но лезть в картину сейчас, с бодуна и неодетым, он не рискнул, хотя старшеклассницы, которых он, помнится, писал невинными девицами, речи вели скабрезные и соблазнительные. Гоша подошел к перевернутой картине и прислушался. Тихо. Он осторожно перевернул картину красками наружу. На холсте цвели маки. Все было, как обычно. Впрочем, не совсем. Следов тяжелых ботинок на лугу он не рисовал. Здоровяки подходили сюда. Быть может, они даже заглядывали в мастерскую. Он снова повернул картину холстом к стене, дошел до дивана, присел и закурил. Чудеса, как ни странно, работали. Вот только старшеклассницы на пруду… Сам Гоша рисовал чистых деревенских девочек, он и не подозревал, что у них могут быть такие мысли. Получалось, что нарисованные им картины жили по своим правилам. В некоторые из них даже соваться опасно было.Глава четвертая
Вика ворвалась в его жизнь так же стремительно, как отдалась ему на старом продавленном диване. Особым умом она не блистала, но проявляла разумную житейскую осмотрительность. Гибкая, стремительная, с маленьким рюкзачком, она появлялась в мастерской, оживляя ее своим присутствием. Гошу она называла исключительно по фамилии. — Слушай, Минин, пойдем сегодня в НЭТ. Говорят, там забойную вещь показывают, по мотивам Дрейзнера. — Драйзера, — поправлял Минин. — Ну Драйзера, — легко соглашалась она. — Пошли, а? Ну чего ты сидишь, все мажешь, мажешь… Нет, ты вообще-то нормальный художник, но нельзя же целыми днями рисовать, надо ведь и отдыхать иногда. А ты рисуешь да валяешься со мной на этом диком диване. Или пьешь с друзьями. Минин, пошли? У нее как-то легко получалось уговаривать. И они шли в НЭТ или муз-комедию, или сидели в аристократическом кафе «Бастион Сен-Жермен», где выступали звезды эстрады с небольшими приватными концертами. — Нет, я, конечно, понимаю, что плохо развита, — очаровательно улыбалась Вика. — Зато я гибкая. Хочешь, мостик сделаю? Или сальто с места? А эти коровы из стриптиза только задницами и сиськами трясут. Не понимаю, чего на них мужики пялятся? Вот ты, Минин, скажи, что ты в них находишь? Чего в них такого, чего у меня нет? — У тебя все есть, — улыбался Минин. — Даже больше, чем у них. — Я серьезно, — надувала губки Вика. — А ты смеешься. Чего у меня больше? Мне такую задницу растить и растить. Нет, Минин, скажи, у меня ведь фигурка лучше? Только честно, без трепа! Иногда Гоша дарил ей букеты цветов. Он их рисовал сам, поэтому цветы в букетах иногда выглядели фантастично. Когда он впервые преподнес Вике букет роз, девчонка зарделась, уткнула носик в цветы. — Это ты мне? Ох, Минин, балуешь ты меня! А красивые какие! Слушай, Минин, ну зачем ты так потратился? Купил бы букетик фиалок. А вообще я цветы люблю. А уж такие! — и, счастливо улыбаясь, чмокнула Гошу в губы. — Балдеж! Ночью, зябким лягушонком лежа рядом с Гошкой, она рисовала у него на груди узоры тоненьким пальчиком. — Знаешь, Минин, мне с тобой так спокойно. Ты не думай, я за тебя замуж не рвусь, просто мне нравится, как ты за мной ухаживаешь. Такие цветы даришь, обалдеть! Поехали завтра за Волгу? Побродим по лесу. Знаешь, я люблю ходить по лесу. Идешь, зеленые кусты вокруг, на них, блин, пауки паутину свою плетут. А утром на паутине роса капельками. Слушай, Минин, поехали, может, ты тогда такую картину нарисуешь! — Напишешь, — поправлял ее Гоша. — Да какая разница, — тихо смеялась Вика. — А потом у тебя ее купят за миллион баксов, и мы поедем в Африку. Возьмешь меня в Африку? Блин, всю жизнь хотела на слонов и обезьян посмотреть. И еще крокодилов. И утром они ехали в заволжский лес, бродили среди дубов, кидали камни в ерик, купались, занимались любовью в нежном осиннике, смотрели в небеса. Времени на прежние выпивки как-то уже не хватало. Компания потихонечку рассосалась, но Гоша Минин об этом не особенно жалел. Иногда, когда Вики не было, он отправлялся в картину «В ожидании запчастей», где все было по-прежнему. Это он, Гоша, думал, что механизаторы ждут запчастей, на самом деле они своего человека в сельпо за водкой гоняли. — Слышь, Гошка, — строго сказал комбайнер Иван Иванович. — Пора бы и честь знать. Раз посидел на халяву, другой… Проставляться не думаешь? — А как же! — пообещал Минин. — Смотри, — предупредил мотоциклист Коська, который ездил за водкой. — Другой раз с пустыми руками и не появляйся! От поля подошел штурвальный Веня, размял пальцами колос, озабоченно сказал: — Осыпается уже, Иван Иванович! Боюсь, без зерна останемся. — Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Иван Иванович. — Допил, гад, водку? — Так ее там всего стопочка и оставалась, — сказал штурвальный Веня. — И теплая она уже была. Я уж потом и сам жалел, что глотнул. — Да откуда же ей холодной взяться? — рассудительно прикинул Иван Иванович. — Чай, в магазине холодильников для нее нет. — Я принесу, — пообещал Минин. А потом они сидели у края поля, курили сигареты Минина и разговаривали о разных житейских делах. Деревня, в которой жили Иван Иванович и его подручные, называлась Касимово, с каждым годом людей в ней оставалось все меньше, но не потому, что народ мер, многие просто уезжали, не видя никаких перспектив в сельской жизни. «Это не мы пьем, — втолковывал Иван Иванович. — Это душа требует! В шестидесятые годы у нас, почитай, почти пятьсот дворов было, а сейчас хорошо, если сотня осталась. А сколько домов без людей стоит! Скоро вообще деревня помрет. Врачи к нам не едут, ежели хворь какая, то приходится в райцентр добираться. А школа у нас восьмилетняя, потом дети в интернате учатся. Такие дела. У вас там, в городе, и не знают ничего про наши дела». И купальщицы говорили о том же. — Скучно у нас, — сказала старшеклассница Нина. Минин старался не смотреть на ее ноги и грудки, тугими мячиками выпирающие из бюстгальтера бикини. — Я как школу закончила, — сказала Нина, — сразу в библиотеку работать пошла. Не в доярки же! А здесь зарплата такая, что удавиться хочется. И мужиков у нас в деревне нет, одни пьяницы. Мать талдычит: замуж пора, замуж пора! А за кого выходить? За Петю Сорокина, который двадцать четыре часа в сутки не просыхает? За Лешу Косоротова? Так он дебил настоящий, на его улыбку достаточно поглядеть, чтобы понять, как ты с ним жить будешь. Тошно, Гоша! — Так уезжай, — посоветовал Минин. — А куда? Мать болеет, отец, как ему ногу на пилораме отрезало, пьет постоянно. Легко сказать, уезжай. Для того чтобы устроиться, деньги нужны. А где их взять? — Работать пойдешь. — Кем? — вздохнула Нина. — Специальности у меня нет никакой, а в городе, говорят, только за квартиру почти три тысячи, а может, и по-более платить надо. Тогда уж точно на панель придется идти, как Зойка Михайлова. Минину Нину жалко было, но вот как ей помочь, он даже не представлял, а потому к купальщицам заглядывал редко. Мастерская его заполнилась незаконченными натюрмортами. И только Минин знал, что они были вполне законченными — иначе где бы он брал хорошее вино и отменные фрукты, которыми угощал Вику? Больше всего она любила большие желтые в коричневую крапинку груши, которые таяли во рту, оставляя после себя сладость и привкус ситро «Дюшес». — У нас во дворе такие росли, — смеялась она. — А груша была высокая, я раз полезла на дерево и навернулась с самой верхотуры. Даже шрам остался, посмотри! И Минин смотрел, а потом принимался целовать маленькую белую полоску шрама на твердом стройном бедре, а сами знаете, куда в конце концов такие поцелуи заводят. Не вам мне это объяснять, взрослые ведь люди. Отдышавшись и постепенно приходя в себя, Вика вытирала благодарные слезы, шептала: — Минин, я сегодня водолазочку в «Минимаксе» видела обалденную. Знаешь, как ты бы в ней смотрелся! А потом тебе еще надо трубку купить. Я читала, все художники трубки курили. И Симонов тоже. — Так он поэт, — возражал Гоша. — Да я знаю, я его книжку читала. «Жди меня» называется. Знаешь, какие у него ловкие стихи? Блин, слезу выдавливают. А в самом конце книги фотографии. Он молодой, ну такой лапочка. И с трубкой, блин, во рту. — Слушай, Вика, — удивлялся Минин. — Ну какой из тебя тренер? Ты сама еще девчонка. Девочка забрасывала ему на живот белую ногу, заглядывала в глаза, возражала: — Ты меня, Минин, совсем не знаешь. Я ведь и строгой могу быть! — и командно звонким голосом приказала: — Минин, к снаряду! Приготовиться Мирзозюкину! — А кто это такой, Мирзозюкин? — наваливаясь и ревниво ища губы, спрашивал Гоша. Вика со счастливым смехом уворачивалась, потом смирялась, сама подставляла губы и после затяжного поцелуя с легкой одышкой шептала: — Откуда я знаю? Это я сама придумала. Правда, ведь гадкая фамилия? Мирзозюкин! Замирала, глядя Минину в глаза. — Минин, что ты делаешь? Перестань! Я знаешь, как устала! На мне словно весь день воду возили, — и тянулась к нему губами, закрыв глаза. — Ну хорошо, хорошо, только в последний раз, мне завтра четыреста метров в зачет бежать!Глава пятая
В квартиру Минина Вика вошла тоже буднично и обыкновенно. Вошла, огляделась по сторонам, укоризненно посмотрела на Гошу. — Слушай, Минин, ты когда здесь последний раз убирал? У тебя даже на полу слой пыли! Переоделась в его старую рубаху и принялась за уборку. Рубаха ей была как платье. Минин сидел на тахте и с удовольствием смотрел на подругу, боясь себе признаться, что он привык уже к ней, так привык, что просто не может без нее. А она кружилась по комнатам, что-то задорно напевая, сдувая со лба постоянно падающую вниз челку, и прямо на глазах происходило чудо — впервые после смерти матери в дом входили порядок и чистота. — Минин, у тебя «Абсолют» есть? — крикнула она с кухни. — Какой еще абсолют? — удивился Гоша. — Ну, которым посуду моют. Ты же, блин, их года три только споласкивал, их даже в руки противно взять! Пришла усталая, раскинулась на диване, забрасывая голые ноги Минину на колени. — Ну ты, Минин, унавозился! Аж взопрела! — дрыгнула ногой, отгоняя назойливую, как муха, руку Гоши. — Отстань! Мне сейчас ванную принять надо. У тебя там шампунь какой-нибудь есть? Я что-то не видела. Мне вообще-то итальянский ужасно нравится, «Леди Яблоко» называется. «Надо нарисовать, — подумал Минин. — Только перед этим зайти в магазин и посмотреть, как он выглядит». — Я вчера курсовую работу написала, — сказала Вика, глядя в потолок. — Музыкальная ритмика как элемент тренировки. — И как? — осуществляя легкую разведку пальцами, спросил Гоша. — Еще не проверили, — Вика села, сбрасывая ноги на пол. — Все. Не лезь. Я в ванную пошла. А ты подумай, что есть будем. Я ведь проголодалась, когда всю эту грязь выносила! И унеслась в ванную, дробно стуча босыми пятками спортивных ножек по паркету полов. В ванной зажурчала вода, потом зашумел душ, слышно было, как Вика напевает что-то из репертуара Аллы Пугачевой. Минин с улыбкой посидел на диване, потом встал и пошел на кухню. Там все сияло чистотой, даже тарелки были вымыты до хруста. Он полез за холодильник, достал бутылку «Божоле» урожая тысяча семьсот двадцать третьего года, которую он подсмотрел в музее вин и нарисовал в два вечера. А в холодильнике давно уже томились фрукты, розоватая семга и форель, сыр, коробка конфет «Ассорти», огромные и зеленые польские яблоки и крапчатые бананы из Гвинеи-Биссау. Все это заняло свое место на столе и выглядело так празднично, так красиво, что Минин пожалел об отсутствии у него бокалов, в которые всегда полагалось наливать вина. — Минин! — позвали из ванной. — Будь другом, притарань мне рюкзачок! С рюкзачком подруги в руке Гоша подошел к дверям ванной. — А зачем он тебе? Дверь открылась, и его встретили сияющая улыбка, гордо вздернутый нос и темные от воды волосы. — Как это зачем? — удивилась Вика. — Там у меня свежие трусики лежат! Слушай, Минин, ну раз уж ты здесь, может, ты мне спинку потрешь? Позже уже, за столом, сидя в любимой рубашке Минина и разглядывая выставленное Гошей гастрономическое великолепие, растроганно сказала: — Ну, Минин, ты даешь! Умеешь ты устроить девушке праздник! Встала, обняла Гошу со спины сильными руками в редких веснушках, нежно поцеловала в ухо. — А постель ты постелил? — и разочарованно вздохнула: — Ну вот, блин, я так и знала! Ночью они стояли на балконе и смотрели на звезды. — Знаешь, Минин, — доверительно сказала Вика, уютно устраиваясь под его рукой. — Вот было бы хорошо, если бы был такой остров, на котором бы жили только хорошие люди, и у нас там имелся свой дом. Мы бы ходили к другим в гости, купались бы в море, и ты рисовал бы свои картины. А я бы учила негритят спортивной гимнастике и акробатике. Мне надо за жизнь обязательно воспитать чемпиона мира или Олимпийских игр, чтобы не говорили, что я зря училась в институте. Только надо, чтобы обязательно на острове росли бананы и яблоки, я их ужасно люблю! «Надо обязательно написать, — сонно подумал Минин. — Остров и океан». Вика птичье клюнула его снизу в подбородок. — Слушай, Минин, я уже замерзла. Ты можешь донести меня до кровати? Ты ведь не слабак, да? Кто бы после таких слов признался, что он слабак?Глава шестая
Соломону Георгиевичу Гоцу Вика понравилась. — Хорошая девочка, — вытирая усы от вина, сказал он. — Вы за нее держитесь, Гошенька, без нее вы пропадете. Хорошее вино! Что это? Долго и уважительно рассматривал бутылку из-под «Божоле», потом поднял на Гошу проницательный взгляд. Такой бывает лишь у жуликов, милиционеров и дельцов, но кто в наше время скажет, что это не одно и то же? — Забурели, Гошенька, забурели, — констатировал старик. — А у меня к вам предложение. Есть командировка в район области. Местные власти хотят художественно оформить свой Дом культуры. Деньги у них есть, так что работать в долг не придется. Хотите взяться? Из уважения к вам предлагаю шестьдесят процентов. Соломон Георгиевич Гоц давно работал в культуре, эксплуатируя молодые таланты и тех, кто по простоте своей душевной не мог себя подать. Гоше Минину частенько приходилось батрачить на него, но никогда еще старик не был так щедр. Но Гоше это было не нужно. Да и не хотел он уезжать, оставив девочку Вику на целый месяц, а то и больше одну. Соломон Георгиевич покачал седой головой. — Жаль, Гошенька, жаль. У вас воображение. Но не буду настаивать, тем более что я вас понимаю, так понимаю, — и покосился на дверь кухни, за которой что-то напевала Вика. — Славная девушка, очень славная. А что Чебаков, он сейчас сильно пьет или с ним можно договориться? Не подведет? Витьку Чебакова, художника-декоратора и друга своей юности, Минин не видел с месяц, в чем и честно признался Соломону Георгиевичу. — Даже так? — старик кивнул. — Ну что же, не буду вас задерживать. Кстати, Гошенька, если вы нуждаетесь в деньгах… Правда, судя по коллекционным винам, я бы этого не сказал. Эта бутылочка на аукционе потянет тысячи три-четыре в «зеленых». Любимая бабушка оставила вам свои сбережения? — увидев, что Минин хочет что-то сказать, предупредительно поднял руки. — Все, все, молчу! Буду благодарен вам, Гошенька, если вы нальете мне еще полбокала. Наконец-то вы обзавелись достойной посудой. Красивые бокалы, с радостью купил бы дюжину таких в свою столовую. Бокалы Гоша нарисовал сам по фотографиям фотоальбома «Богемское стекло Чехии», ну, разве что добавил на них свои и Викины вензеля. Для этого пришлось узнавать у Вики ее фамилию и отчество. — А зачем тебе это, Минин? — удивилась та, всплеснула руками и ахнула: — Ты что, хочешь сделать мне предложение? Бли-и-ин, как интересно! Начинай, Минин, не исключено, что я соглашусь! И с таким же восторгом она приняла стоящие на столе бокалы. — Какая прелесть! Минин, это точно мой? Обещаешь, что никогда в жизни из него не будет пить никто другой! Ну, обещай! Обещаешь? — Только если я сам, — обещал Минин. Вот и сейчас он пил вино из Викиного бокала, а Соломон Георгиевич — из его собственного. «Надо нарисовать еще парочку, и попроще — для гостей», — подумал Минин. Попрощавшись с Гошей и галантно поцеловав руку Вике, старик ушел. — Интересный дядька, — сказала Вика, когда они остались одни. — Он тебе работу предлагал, а ты отказался. Из-за меня, да? — Слушай, — неожиданная мысль пришла Гоше в голову. — Вот ты у меня живешь, барахло свое перетащила, а как же твои родители? Они не спрашивают, у кого ты живешь, с кем? Вика засмеялась. — А я им сказала, что в общаге живу, — просто объяснила она. — Я им о тебе даже не говорила. Да вообще никому не говорила. На фига? Ты ведь мой и только мой, зачем мне тобою с кем-то делиться, хотя бы и на словах? Щелкнула Гошу по носу. — Любопытный ты, Минин, спасу нет. Ты что, с моими родителями познакомиться хочешь? К этому Минин пока еще не был готов. Около десяти Вика отправлялась в институт, а Минин шел в свою мастерскую. Угол в правой стороне мастерской Минина был увешан картинами военной тематики. Был такой период в жизни Гоши Минина, захотелось отдать дань героическому прошлому народа. На одной из картин по полю шли немецкие танки, а по ним вел огонь артиллерийский расчет. Расчет — это еще слишком сильно сказано. Расчет лежал убитыми и ездовые тоже, а огонь вел наводчик. Снаряды ему подтаскивал раненый командир орудия. Видно было, что сдаваться они не собираются и станут вести огонь до самого своего смертного часа, матерясь и спотыкаясь о пустые латунные гильзы, разбросанные по позиции. На второй картине было поле после пехотной атаки, все в воронках от разрывов снарядов, а среди полыни и трав лежали убитые. Много убитых — весь взвод, поднятый в штыковую атаку командиром. И у каждого убитого было тщательно прописано лицо, отчего картина производила жутковатое и гнетущее впечатление. На третьей картине был изображен солдат, пьющий из родника. Уже по внешнему виду его видно было, какую жестокую атаку пришлось выдержать на высоте его роте. Боец пил и никак не мог напиться, и неизвестно, чем закончился бой — отбросили немцев или они расхаживают хозяйски по позиции и деловито добивают раненых, а значит, в любой момент могут появиться за спиной припавшего к роднику бойца. На третьей картине были развалины домов, похожие на скелеты неведомых чудовищ, что жили с доисторических времен и неожиданно попали под вражескую бомбежку. Когда-то эти картины у Минина пытался выкупить Музей обороны Царицына, но что-то у них там не сложилось с деньгами или просто пришел новый человек, которому художественная манера Минина не понравилась, но как бы там ни было, картины так и остались висеть в одном углу, обрамляя патриотическую картину «Пленение Паулюса», на которой знаменитый немецкий фельдмаршал так устал от войны и мечтал выспаться, что даже не слушал русского офицера, требовавшего от фельдмаршала сдачи оружия. Минин и в прежние времена сюда редко заглядывал, а теперь, когда обрел удивительный дар, даже боялся этого — вдруг потянет в картину, а для чего это ему, ведь там запросто можно нарваться на случайную полю и осколок. Больше всего он любил свою «Дубовую рощу», где можно было прогуляться, полежать в густой зеленой траве, глядя, как над рощей ползут неторопливые белые облака, постоянно меняющие свою форму, а потому похожие сразу на все предметы, когда-либо существовавшие на земле. Иногда здесь проходил дождь, и тогда можно было вернуться в мастерскую с пакетом, раздувшимся от массивных поддубовиков и пахучих белых грибов. — Ты где был? — ревновала Вика. — Только не говори, что ты эти грибы на базаре купил. Признавайся, Минин, с кем за Волгу ездил? Ох, дождешься ты у меня, сама буду плакать, но чужой бабе ничего твоего не оставлю! И смотрела на Гошу такими глазами, что и в самом деле страшно становилось. Ясное дело — ревновала. Однажды Минину попался «Археологический журнал». Красивый, интересный журнал, на прекрасной лощеной мелованной бумаге, а на вкладыше напечатаны цветные фотографии золотых украшений из египетского захоронения. Чуть ли не сама Нефертити их носила. Гоша не поленился и за полмесяца сделал их точные копии, долго возился с цветом, пока не додумался использовать сусальное золото, за которым ездил в Казанский собор, но вышло здорово, не хуже настоящих. После одной из размолвок с Викой он преподнес ей эти украшения, взятые с картины. Вика косо глянула, ахнула, кинулась примерять серьги и браслеты с колье перед зеркалом, потом опомнилась, и — как была — в украшениях, и сама похожая на египетскую царицу кинулась целовать Гошу. — Какие клевые! — сказала она восторженно. — Даже от настоящих не отличить! Минин, ты сам золото! А через два дня вернулась задумчивая, печальная. — Минин, — строго сказала она. — Ты где это золото взял? Оно же настоящее! Меня чуть в милицию не забрали! Выяснилось, что она по недомыслию своему отправилась в ювелирный магазин, а там ей попался специалист, который тут же уяснил, что он держит в руках. А поскольку цена у всего набора была баснословная, можно сказать, на миллионы все шло, и не в деревянных рублях, и такие ценности никак не могли находиться на руках у простой городской девчонки, пришедшей в магазин в затрапезных потертых джинсах и голубом топике, то он вызвал милицию. Потом все выяснилось, и даже вернули Вике все, когда она рассказала, что золотые украшения сделал ее знакомый художник. — Так что ты смотри, Минин, они к тебе еще придут, — пообещала Вика. — Не знаю, что ты им врать будешь, но мне-то не ври. Где ты эти украшения взял? Украл где-нибудь? Они же, блин, настоящие! Вот тут Минин и проявил мягкотелость, за которую потом пришлось так горько расплачиваться: он посадил Вику на колени и рассказал ей все. — Ни фига себе, — сказала Вика, заглядывая Гоше в глаза. — Слушай, Минин, а ты не врешь? Нет, я по глазам вижу, что ты не врешь. И как это у тебя, запросто получается? — Пошли, — вздохнул Минин. — Только ты представь, что очень хочешь. Очень, очень, очень. Еще бы ей это не представить! У Вики это получилось сразу, с первого захода. Воображение у нее было живое, и душа верила в чудеса. Взявшись за руки, шагнули в дубовую рощу.Глава седьмая
А потом они слушали органный концерт в исполнении Гарри Гродберга в концертном зале Пицунды и бродили по реликтовой роще рододендронов, нарисованной Гошей в девяносто втором. Где-то неподалеку шумело море. — Минин, — сказала Вика. — А пойдем в море искупаемся? Представляешь, вернемся домой, а мы в море купались. Жаль, блин, похвастаться нельзя. А все равно никто не поверит! — А если исчезнет все? — спросил Гоша. — Представляешь, куда нам отсюда добираться? А у нас денег нет. — Ну, триста рублей у меня есть, — неуверенно вздохнула Вика. — Только ты прав, не надо рисковать, у меня два зачета завтра. Уже дома, стоя под душем, она грустно сказала: — А все-таки жаль, что мы в море не искупались. Представляешь, я никогда на море не была. Минин, давай на море съездим? Тут ведь недалеко, я смотрела по атласу, даже тысячи километров не будет. Ближе, чем до Москвы. В постели, уютно устроившись под мышкой у Гоши, она долго фантазировала о путешествиях, хотела побывать на снежной вершине. «Представляешь, Минин, у нас жара, а там холодно-холодно!» И еще она хотела побывать в Австралии. «Там, Минин, кенгуру есть и эти, как их, долбоносы!» — «Утконосы!» — привычно поправил Минин. «Фиг с ними, пускай будут утконосы! — не менее привычно согласилась она. — Минин, давай спать, я сегодня так устала, столько нервов потратила! Думаешь, легко по картинам шляться?» Она быстро уснула, а Минин ворочался в постели и никак не мог уснуть, а потом задремал, и ему вдруг приснились утконосы, играющие в теннис с кенгуру, а судил матч пингвин, в своем перьевом костюмчике похожий на джентльмена из Английского клуба. Кенгуру был ловким, а утконос хитрым, но все равно почему-то чемпионом стал бурый медведь, который до этого отличался лишь тем, что ловко ломал ракетки. Под утро он проснулся, ощутив рядом непривычную пустоту. Вика сидела на кухне, накинув на себя его куртку, и читала учебники. Подняв к вошедшему взгляд, она улыбнулась испуганно и немного виновато. — Минин, ты чего? Рано еще! Ложись спать. А мне надо хоть учебники полистать, зачеты все-таки! Такой он ее и запомнил. В этот день Минин ездил в царицынский город-спутник Ахтубград, где взялся художественно оформить своими смелыми дизайнерскими решениями кафе-столовую завода пусковой аппаратуры. Представителем заказчика был быстро лысеющий, но еще скрывающий лысину хитрым зачесом мужичок в роговых очках и въедливый, как скипидар. Все ему было не так, многое приходилось переделывать, гениальные мысли, приходившие в голову мужику, менялись, как клиенты у проститутки, — неожиданно и часто. За работу Минин взялся просто так, чтобы навыки не растерять, а потому серьезно подумывал, не бросить ли ему все к чертовой матери. Только наработанный авторитет останавливал, не хотелось, чтобы про него говорили как про человека, способного бросить работу, сделанную только частично. Вернулся он уже вечером — взвинченный и злой. Дома никого не было, он посидел немного, но Вика не появлялась. Ближе к девяти часам вечера чувство беспокойства только усилилось. Минин понял, что дома не усидит. Да и Вика вполне могла отправиться в мастерскую. Она же знала, что он на работе. Рюкзачок Вики лежал на столе. — Вика! — крикнул он. — Вика! Ему никто не ответил, да и некому было отвечать, в мастерской никого не было. И тут он увидел картину с цветущими маками. Ее кто-то перевернул так, чтобы было видно изображение. А кто это мог сделать кроме Вики? Гоша сразу все понял. Некоторое время Минин оцепенело сидел, разглядывая картину, а воображение рисовало страшную картину. Вика пришла сюда после зачетов, посидела немного, может быть, даже повалялась на диване, а потом решила развеяться и самостоятельно, без Минина, где-нибудь погулять. И наткнулась на картину, перевернутую изображением к стене. Перевернула ее и увидела цветущие маки… Ну почему, почему он ничего ей не сказал?! Идиот! Кретин! Самодовольный дурак! Гоша сидел и раскачивался на табурете, не в силах подняться и подойти к картине. Голова была чиста, и только одна-единственная мысль доставала его сейчас: почему он ничего не сказал Вике? Сидеть тоже было невыносимо. Гоша заставил себя встать и подойти к проклятой картине. Изменения были видны сразу: поле было истоптано и в левом углу белело обнаженное тело. Минину не надо было вглядываться в него, он сразу же угадал родинки на бедре и груди. Не помня себя он полез в картину, но ничего не получалось, то ли волнение мешало, то ли кураж был не тот. Он остановился и услышал тяжелые приближающиеся шаги и негромкий разговор: — Дурак ты, Гапон! На фига ты ее подрезал? Девочка крепкая была, с недельку еще послужить могла! — А не хрена было плеваться, — лениво сказал второй. — Терпеть не могу, когда мне в этот самый момент в морду плюют. Так и импотентом можно стать. Тебе, Вожак, все равно, а я себя уважаю. Не ссы, через неделю отгулы, в городе оторвешься! — Одного не могу понять, — сказал Вожак. — Откуда она взялась? Вроде бы мы все поле просматривали. Никого не было, а потом смотрю, она уже идет. — Какая теперь разница, — отозвался Гапон. — Была и нету. Ты сходи за лопатой, прикопать бы ее надо. Начальству докладывать будем? — Больной, что ли? — спросил Вожак. — Зачем себе на шею петлю надевать? Нашим только скажи, они тебя сразу за горло возьмут, бесплатно на них батрачить будешь. Ладно, пошли за лопатой. Минина корежило от ненависти. Вместе с тем он ничего не мог сделать. С голыми руками на стволы не полезешь. И Вику оттуда забрать было просто невозможно. Куда он дел бы труп, и как оправдался, если бы в его мастерской обнаружили обнаженный труп любовницы с резаной раной? Это самого себя под вышку подвести, пусть ее вроде пока и не дают. Сволочи! Сволочи! Гоша подошел к дивану, повалился лицом в смятую подушку, еще хранящую запах Викиных духов, замычал, кусая подушку, а потом медленно завыл — низко, на одной ноте, и никак не мог заставить себя остановиться.Глава восьмая
Утром пришел милиционер в гражданской одежде. Показал удостоверение, спросил про украшение. — Сам сделал, — подтвердил Гоша. — Вот по этому образцу. И показал фотографии в «Археологическом журнале». Милиционер долго и внимательно разглядывал фотографии, потом сказал: — Я возьму? — и спрятал журнал в папочку, не дожидаясь разрешения. Походил по мастерской, посмотрел картины, поцокал языком: бывают же золотые руки у людей, и сел к столу, объяснение писать. — Золото где брали? — Мамино, — сказал Гоша. — И две моих гайки по десять граммов. — Хорошо зарабатываете? — уже с уважением спросил милиционер, бисерным и четким почерком записывая его показания. — Бывает, — утомленно сказал Минин. — Это же искусство, в нем живут по принципу: когда густо, а когда пусто. Вот купите картину, у меня прибавится. — И много продаете? — Я же говорю: когда как, — заставил себя улыбнуться Минин. — А гражданке Котовой вы кем доводитесь? Вика носила фамилию Котова. Носила… — Гражданский муж, — сказал Гоша. — Какой-то вы утомленный, — оценил его состояние милиционер. — Работал всю ночь, — сказал Минин. Оставшись один, он бросился к картине. Маки уже распрямились, и никаких следов от бандитов и Вики не оставалось. В мастерской следов пребывания Вики было больше, чем на маковом поле. Минин нарисовал несколько бутылок, дал краске подсохнуть, с опаской протянул руку. Пальцы ощутили холодную гладкость бутылок. Уже с облегчением Гоша уложил бутылки в кулек, выгрузил из холодильника все запасы продуктов, огляделся, взгляд зацепился за Викин рюкзачок, и сердце снова резанула боль. Вот так. У комбайна по-прежнему гудели. — Гошка, — радостно замахал рукой Иван Иванович. — Вовремя ты. Подгребай! Пили они радостно, привычно, словно не делали этого каждый день. Комбайнер внимательно рассматривал извлеченную из кулька бутылку. Бутылка была немного кривобокой, все-таки Минин ее наспех рисовал, но этикетка на бутылке имелась — не отличишь от настоящей. — Где только такие бутылки делают? — сказал Иван Иванович. — Руки бы этим мастерам пообрывать! — Главное, чтобы водка в ней была нормальная, — хмуро сказал Минин. — Наливай, Иваныч, наливай. Ты что думаешь, из кособокой бутылки не польется? Еще как полилось. — А водка замечательная, — признал комбайнер. — И ледяная, аж зубы ломит! Слышь, Гошка, а чего ты такой хмурый? — Девушку у меня убили, — сказал Гоша, и снова обожгло мгновенной режущей болью сердце. — Это плохо, — сказал Иван Иванович. — Я со своей тридцать пять лет прожил. Всякое было, но как подумаю, что с ней что-то случится, жить не хочется. Нашли? — Кого? — не понял Гоша. — Ну, тех, кто убил. Повязали их? Минин отрицательно покачал головой. — И не найдут, — авторитетно сказал штурвальный Веня, накладывая на ломоть хлеба ломтики нежнейшей форели. Пальцы у него были черными. — У моей соседки Николаевны на прошлой неделе две тонны угля за ночь вынесли. Думаешь, искали? Как же! Участковый справки собрал, что уголь с примесями был, что дожди лили, актик составил, что у Николаевны крыша на сарае дырявая да давно не перестилалась, а потом и дело похерил. По его заключению получается, что никто у нее уголь не крал, а просто дожди земляные примеси вымыли, и остался у бабки самый что ни на есть чистый уголек. — Тебе язык почесать, а у человека — горе, — укоризненно сказал Иван Иванович и, повернувшись к мотоциклисту, строго заметил: — Свезло тебе, Коська, ехать никуда не надо. Вроде и мужики были участливые, а вот не лезла Минину водка в рот, плохо ему было, словно сидела напротив Вика и грозила пальчиком: «Минин, ты что? Да разве можно такими дозами водку лакать?» Он даже отошел за комбайн и всплакнул немного, но это тоже не помогло. Вернулся к компании и застал окончание разговора. — Странный мужик, — сказал Веня. — Непонятный. Не люблю таких. Вот ты скажи, Иваныч, откуда он приходит? До Березовки тридцать километров, до второго отделения — пятнадцать. Может, он инопланетянин? Вот и водка у него странная, бутылка-то не заводская. Иваныч, ты на закуску посмотри, разве такую в районе достанешь? — Да хватит вам, — благодушно сказал комбайнер. — Такое несете, что уши в трубочку сворачиваются. Знаю я его, художник он, в восемьдесят пятом году меня здесь же рисовал. И в прошлом году был. Мужику и без того плохо, слышали же, девчонку у него какие-то козлы убили. Эх, государство у нас гуманное, я бы таких идиотов на площади расстреливал, чтобы другим неповадно было. И словно пелена с глаз Минина спала. Теперь он знал, что будет делать, он даже удивлялся, что раньше не догадывался, как поступить. Он вернулся в мастерскую и не видел, как штурвальный Веня осторожно обошел комбайн, вернулся к компании, сел, молча налил себе, выпил и только потом растерянно сказал: — А только нет его нигде. Как в воздухе растворился. Я же говорил, он инопланетянин, а вы надо мной ржали!Глава девятая
Минин писал картину весь день и еще ночь, и еще один день, отрываясь только на то, чтобы попить воды и сходить в туалет. У него не было ни одной фотографии Вики. Да он в них и не нуждался. Он и так помнил мельчайшие детали ее внешности, особенности фигуры, все ее веснушки и родинки, и работал исступленно, боясь забыть что-то. К вечеру следующего дня он закончил рисовать, бросил палитру и кисти в угол, достал из холодильника бутылку пива и жадно выпил ее. А потом лег спать. Проснулся он ближе к полуночи, долго сидел на диване и собирался с духом, потом решительно прошел в угол и стал разглядывать собственные картины, пытаясь определить, которая из них подойдет для его целей лучше. Больше подходила картина, на которой изображено было поле после пехотной атаки. Там среди полыни и трав лежали убитые. Много убитых — весь взвод, поднятый в штыковую атаку командиром. Картину, где был изображен солдат, пьющий из родника, он отверг, там можно было столкнуться с немцами. Постоял немного, собираясь с силами, и нырнул в картину. Поле было изрыто воронками, холодный осенний воздух пах паленой пластмассой и свежей землей. Он сделал несколько шагов. Было не по себе. В противогазной сумке первого же убитого лежало несколько гранат, и Гоша переложил их в пакет. Пошарил глазами, нашел винтовку убитого, но брать ее не стал. Ему нужен был автомат, желательно ППШ с диском на семьдесят два патрона. Еще у одного убитого он нашел две гранаты и полностью снаряженный диск, а с автоматом опять не повезло — осколками мины у него расщепило приклад и покорежило затвор. — Браток! — простонали за спиной. — Браток! Минин обернулся. С земли на него смотрел раненый. На землистом, уже начинающем желтеть лице выделялись серые глаза, и в глазах раненого была такая боль, что Гоша почувствовал себя негодяем и мародером. — Пить есть? — спросил раненый. — Тебе перевязка нужна, — сказал Гоша. — Ты уж потерпи, сейчас санитары подойдут. Наверное, он дико смотрелся на поле, где лежали мертвые — в джинсовом костюме и ковбойке, но раненому было не до оценок и рассуждений — он закрыл глаза и снова уткнулся лицом в разворошенную землю. Все остальное время, которое Гоша провел на поле, склоняясь над мертвыми, его не оставляло чувство, что он обирает мертвых. — Простите, ребята, — шептал он, чувствуя, как по щекам его бегут слезы. — Простите меня. Мне нужно. Мне, правда, очень нужно. Простите меня! Вернуться оказалось сложнее. Пришлось перелезать вместе с тяжеленным пакетом в одной руке и автоматом в другой. Оказавшись в родной мастерской, Минин плюхнулся на диван и некоторое время приходил в себя. Неожиданная мысль заставила его засмеяться: приди сейчас милиция, вовек бы ему не отмазаться от собранного арсенала, тогда бы и украшения Нефертити смотрелись совсем по-иному. Криминально они бы выглядели. Преступно. Он смеялся долго, почти истерично, потом снова плакал, а потом уснул, уткнувшись лицом в подушку, и спал до рассвета. На рассвете он проснулся, сел к столу, разобрал и собрал автомат. Устройство его было несложным для человека, который отслужил два года в армии и интересовался оружием. Автомат был исправен. Минин передернул затвор и выстрелил в двуглавого орла, прибитого над входом в мастерскую. Оружие оказалось в полном порядке. О том, что выстрел кто-нибудь услышит, Минин не волновался. Толстые стены подвала и метровый слой бетона над головой надежно гасили все звуки. Проверено было, и не раз! Гранат оказалось девять. Уже с ввинченными запалами. Вполне достаточно для задуманной им операции. Он положил их в рюкзачок Вики, высыпав косметику, разные мелочи, ключи от их квартиры, зачетку и студенческий билет прямо на стол. Запоздало подумал — вот и фотографии. Но заглядывать в документы было свыше его сил. Он вновь оказался на маковом поле. Здесь тоже был рассвет. Холодный и безрадостный. Маки уже отцветали, при призрачном утреннем свете оставшиеся цветы казались черными пятнами. Он шел по макам, озираясь по сторонам, и потому вовремя увидел белеющую в сумраке палатку. Большая армейская палатка на тридцать человек укрылась в зарослях кустарника. Рядом с ней горел небольшой костер и зябко шевелился часовой, негромко напевая что-то заунывное и грустное. Минин присел, достал из рюкзачка несколько ребристых гранат, аккуратно разложил их перед собой. Осторожно передернул затвор автомата. В бою надо думать только о победе — так объяснял когда-то в армии капитан Пресняков. Побеждает тот, кто больше нацелен на победу. Как на учениях, он по очереди выдергивал чеки из гранат и швырял их в приоткрытый темный вход палатки. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Гранаты еще не взорвались, а он уже резанул по шевелящемуся силуэту часового короткой очередью, а следом звонко рванули «лимонки». От их осколков Минина спасло дерево. Наступила тишина. Слышно было, как кто-то стонет и воет под рухнувшей и разодранной в клочья палаткой. Держа автомат наготове, Минин подошел ближе. Часовой был еще жив. Увидев его, Гоша испытал мстительную радость: это оказался бандит по кличке Гапон, Минин его запомнил еще со времени своего первого постыдного бегства. Бандит тоже увидел Минина, глаза его расширились, уже стало достаточно светло, чтобы увидеть перекошенное страхом и болью лицо. — Слушай! — сказал бандит. — Не стреляй! Что сделать-то надо? Ты только скажи! — Девочку вернуть, — сказал Минин. Гапон все понял. Надежда исчезла из его глаз, черты лица заострились, и оно стало безжизненным, словно лицо покойника, каким, собственно, ему и предстояло стать. Автоматные пули разорвали синюю куртку в клочья. Все получилось просто, гораздо проще, чем Минин себе представлял. Капитан Пресняков был прав: в бою выигрывает тот, кто нацелен на победу и использует фактор внезапности. Гоша бросил ненужный ему больше автомат и побрел к выходу. Странное дело, он совсем не чувствовал себя победителем. Усталый человек возвращался с работы после тяжелого трудового дня.Глава десятая
В мастерской царил полумрак. Гоша выпил немного. Не ради опьянения, растрепанные чувства в порядок привести. Посидел у стола, потом вышел на улицу. Город жил привычной жизнью, ничего в нем не изменилось, для города ничего не произошло. Дворник поливал асфальт водой из шланга. Пенистая струя смывала с асфальта окурки. Минину смотреть не хотелось на окружающее. Он вернулся в мастерскую. В двери белела сложенная вдвое бумага, которую Гоша не заметил, когда выходил. Бумага оказалась повесткой. Минина Г. приглашали прибыть в назначенный день и назначенное время к Семенову А. Г. в кабинет N 317 по улице Краснознаменской, дом 17, где располагалось Управление внутренних дел. Минин грустно улыбнулся, вошел в мастерскую и бросил повестку в мусорное ведро. Не собирался он никуда идти, другие у него намерения были. Совсем другие. Он подошел к картине, которую лихорадочно рисовал накануне, сдернул с картины покрывало, скрывающее ее от нескромных посторонних глаз. На картине был зеленый остров на краю океана. На белоснежный песок, усеянный перламутровыми раковинами, накатывались ленивые океанские волны, пронзительно голубели небеса. В зелени деревьев угадывались белые дома, их было много, не иначе как на берегу залива располагался большой поселок, населенный улыбчивыми и добрыми людьми. Там, где лес обрывался песчаным пляжем, стояла женщина и терпеливо ждала. Она ждала его — Минина. Там было хорошо. Там просто не могло быть плохо. Там в одном лесу росли бананы и яблоки. Их рвали веселые белозубые негритята, которые хотели учиться спортивной гимнастике и акробатике. Некоторое время Минин разглядывал собственную картину, представляя, как он идет по тихим улочкам города рядом с красивой стройной женщиной — из тех, кто влюбляется один раз в жизни и любит до самой смерти. Он идет по улице, а навстречу ему попадаются обитатели поселка. Впрочем, к черту, какие обитатели, друзья его там встречают, друзья! Они с ним здороваются и шутят, и приглашают в гости на вечернюю чашку кофе, потому что сами не любят напиваться. И на душе у Гоши становилось постепенно хорошо, он уже любил этот мир, в котором ему предстояло жить. Он постоял еще немного, трогая пальцем краску. Краски окончательно высохли. Надо было решаться. Минин в последний раз оглядел свою мастерскую. Он разжег огонь в камине и бросил в нее картину с цветущими маками. Посидел, глядя, как язычки пламени жадно лижут высохшие краски. На секунду показалось, что он слышит душераздирающие крики, но этого не могло быть — он хорошо поработал накануне. Разве что другие дельцы на разборку приехали. Однако жалеть их не стоило, все эти гады были одинаковы. Из картины «В ожидании запчастей» доносилось привычное нестройное пение. Что было в других картинах, Гоша Минин просто не видел. Да и не интересовало его это совсем. Надо было решаться. Он глубоко вздохнул, взялся за подрамник и вошел в свою последнюю картину, как входят в свою комнату — уверенно и навсегда. Нахлынувшая волна замочила ноги. Послышался крик чаек — пронзительный и печальный, словно за спиной Минина закрывали двери в его прошлую жизнь. Тоненькая маленькая гибкая женщина смотрела на него из-под руки. — Минин! Гошка! — закричала Вика радостно и — сумасшедшая, желанная! — побежала ему навстречу по самой кромке океана, разбрасывая стройными босыми ногами голубые искры, высеченные из изумрудных волн.Царицын,30 апреля — 5 мая 2005 года
Жила-была ведьма, или танцы на краю ночного облака
Глава первая
Она летала по ночам. Так было спокойнее, люди редко задирают голову, чтобы посмотреть на звезды, а потому почти никто не замечал скользящую в небе тень. А если замечал, то помалкивал. Кому хочется прослыть умалишенным? До четырех лет Лина была обычной девочкой. Ничем она не выделялась из своих деревенских сверстниц. Все случилось однажды на залитом солнцем лугу. Мать доила корову, а Лина отправилась собирать цветы. Цветов на лугу было много, васильки зацвели, розовые «часики», колокольчики лиловые и белые. Лина собирала цветы, ожидая, когда мать закончит доить корову и они пойдут обратно в деревню. За своим занятием она потихоньку удалялась от матери и незаметно оказалась на берегу лесной речки. У нас в Вологодской области знаете, какие речки? Воробей пешком перейти может. Воробей может, а четырехлетней девочке, пожалуй, с ручками будет. А на том берегу, прямо за большой замшелой корягой, Лина увидела красные цветы. Большие, красивые. Она посмотрела назад, мать была занята делом. И тогда Лина быстренько-быстренько взяла и перебежала по воде на тот берег. Сорвала цветы — и назад. Но оказалось, что как бы мать ни была занята делом, за дочкой она смотрела. Мать подхватила ее на руки, гневно заглянула в глаза — Лина ее такой никогда не видела — и почти крикнула: — Никогда больше не делай так! Слышишь, никогда! А чтобы ее слова до самых глубин маленькой души дошли, взяла и отстегала Лину собранным букетом. Всю дорогу до дома девочка плакала, ей было жалко цветы. И понять она не могла, почему мама так испугалась — речка-то была узенькая, воробью по колено. Когда Лине исполнилось тринадцать лет, умерла бабушка Дарья. Она лежала в дальней комнате и почти не видна была среди пуховых подушек: желтое морщинистое личико да клок седых волос. Бабушка все просила пить, но никто не хотел к ней подходить. Мать больно щипала Лину: — Не смей туда ходить! Не смей! А родственники по мужской линии обстоятельно прикидывали, как им потолок над умирающей родственницей разобрать. — Так она быстрее отойдет, — сказал дядя Иван. — Так что же, пилить над старухой? — возражали ему. — И так на ладан дышит, а тут еще пыли наглотается! — Трудно ей умирать, — сказал дядя Иван. — Да вы же сами знаете, не может она умереть, пока дар свой не передаст. Ты, Петька, раз пилить не хочешь, иди и подержись за нее. — Нашел дурака, — сказал второй дядька. — Сам иди и держись, а я на завалинке покурю. Ночью было слышно, как бабушка вздыхает и плачет в своей комнате. Лине было жалко бабушку, и она все думала, почему бабушке никто не принесет пить? И дядьки, и мама с папой, и все остальные были людьми добрыми, а бабушке помочь не хотели. А бабушка была хорошей, у нее вся деревня лечилась, даже докторов никогда не вызывали из райцентра. Все знали, если плохо стало, беги к бабе Даше, та тебе поможет. А теперь ей самой никто не хотел помогать. Утром бабушка Дарья снова плакала и просила пить. Лина набрала кружку, проскользнула незаметно в комнату и дала бабушке попить. Костлявые, но неожиданно сильные пальцы сомкнулись на ее тоненьком запястье. — Ты меня не бойся, не бойся, — сказала бабушка. — И никем этот дар не проклят, так, люди болтают. Сама потом поймешь! И закрыла глаза, а на лице ее было такое облегчение, прямо засветилась она от счастья. — Нет! — крикнула вбежавшая в комнату мама. Поп бабушку Дарью отпевать отказался. — И не просите, — сказал он. — Ничего мне от вас не надо. И сметаны я вашей не возьму. Сами знаете, что люди говорят. А люди зря говорить не станут! — Дура ты! — злобно и горько сказала мать, когда они, так и не договорившись, шли от попа. — Теперь всю жизнь мучиться будешь! Я ведь видела, когда ты по воде шла, еще тогда поняла, бабкино в тебе сидит. Так ведь боялась, а все одно не уберегла! Дома она собрала все бабкины книги и тонкие тетрадки, исписанные бабкиным почерком, вынесла их во двор и сожгла на костре, тщательно следя, чтобы ни одна бумажка никуда не улетела. Бабушку Дашу похоронили рядом с церковной оградой. У могилы стояли недолго. Чего уж там, отдали последний долг, пора и поминки справлять. На поминках говорили разное, но больше хорошего, свято придерживаясь известного принципа: о покойниках либо хорошо, либо ничего. — Хорошая была бабка, — с пьяной убежденностью сказал сосед Илья Укустов. — А что черту душу продала… На него зашикали, и Илья Укустов сел, уткнувшись толстыми губами в края граненого стакана. В деревне все похоже — что свадьба, что похороны. Заканчивается одинаково — грянули нестройным хором «Шумел камыш», потом «Черный ворон», а расходились уже вечером, когда комары свои песни начали, — благо до своих домов добираться было недалеко. А когда все уже разошлись, над двором встала тучка, пролилась коротким теплым дождем. Лина легла спать, и приснился ей странный сон, что на могиле у бабушки расцвели белые мелкие цветы, и так их было много, словно свежий холмик белым свадебным платьем накрыли. Лина проснулась и сразу вспомнила сон. Одной ей на кладбище идти не хотелось, она пошла к подружке Ане Укустовой, а ту и уговаривать долго не пришлось. Могила бабушки была в белом цвету. — Ух ты! — сказала Аня. — Красиво! Слушай, Линка, а она в самом деле была колдуньей? — Кто тебе сказал? — сказала Лина и сорвала веточку, усеянную мелкими белыми цветочками. — Отец матери вчера говорил, — сказала Аня. — Может, на речку сбегаем, искупаемся? Тут ведь недалеко. И они искупались в маленькой мелкой речке, где в прозрачной воде бриллиантово сверкали кусочки кварца и вились серебряные змейки уклеек. А веточку Лина засушила в учебнике биологии, который ей уже купили к новому учебному году. И все у нее было хорошо, а про умершую родственницу в доме вспоминали все реже и реже, и только дядя Петя приходил по утрам, держась за голову, сидел на бревне у дома со страдальческим видом. — Ой, бабки нет! Вот уж кто похмелку снимал, вот уж специалистка была! Слышь, Линка, ты же за руку ее держала, неужели и не помнишь ничего? — Иди, дурак! — сердилась Линкина мать. — Иди проспись, чего пьяным языком на девчонку наговариваешь? — Так я к чему, — смущенно оправдывался дядя Петя. — Может, это раньше грехом было, а теперь в городе этих самых экстрасексов развелось, целые академии создают. Говорят, большие деньги загребают! — Иди, иди, — мать замахивалась на него тряпкой. — Свои деньги считай, за год, небось, и десятка трудодней не наберется, все время водкой занято! Постепенно Лина теряла подруг. Одноклассницы стали заметно сторониться ее, а на вопрос Лины Анька Укустова прямо ответила: — Бабка тебе свой дар передала! Все говорят! Ведьма ты теперь, Линка! Мать сказала, чтобы мы от тебя подальше держались. — И с жадным любопытством поинтересовалась: — Лин? А ты в себе это самое ведьминское чувствуешь? Ничего она не чувствовала. Поссорившись с подругой и назвав Аньку дурой, вечером этого дня Лина долго плакала в коровнике, рядом с тревожно и тепло вздыхающей Машкой. Машка опускала рогатую голову и нежно лизала ноги девочки — утешала. Так ведь дар! Не проклятие, не злое украшение — дар! Никаких особых способностей Лина не чувствовала. Может, и зрело что-то, только никак созреть не могло. Наплакавшись, она уснула в пахучем сене, а когда проснулась, в коровнике было совсем темно и Машка все вздыхала у стойла и перемалывала бесконечную жвачку. А Лина обнаружила, что ее окружают огоньки. Нет, не светлячки, какие они, Лина знала. Огоньки казались разноцветными — вот среди травы вспыхивало нежно-голубое пламя, другой огонек казался алым или оранжевым, желтым, как солнечное пламя, нежно-голубым, словно небо по весне. А самое главное, огоньки эти выглядели не точками, а длинненькими стерженьками. Лина завороженно схватила самый длинный из огоньков, а пальцы ее ощутили высохшую травинку. В силу необычайных свойств разноцветно светилась сама трава. А в голове Лины вдруг зазвучал дрожащий старческий голос, словно бабушка Даша из могилы давала ей последний урок: — Прикрыш-трава используется против злых наговоров на свадьбы. Когда невесту приведут от венца в женихов дом, знахарь забегает наперед и кладет эту траву под порог. Молодую заранее предупреждают, чтобы она при входе в свое новое жилище порог перепрыгнула. Если все обойдется честь честью, то жизнь молодухи в мужниной избе будет идти мирно и счастливо, и коли на чью голову и обрушится злое лихо, так это на тех, кто умышлял против счастья молодоженов. Собирают прикрыш-траву в осеннее время — с Успеньева дня до Покрова-зазимья, покрывшего землю снегом, а девичью красу — мужиком. Лина отбросила травинку в сторону, и голос смолк. Проклята! Проклята! Бабушка, ну зачем мне этот дар, если все отворачиваются? Мне же среди людей жить, мне же замуж выходить! Лина выскочила из коровника, влетела в избу. Мать раздраженно подняла голову. — Ты где шляешься? Только и времени у меня — тебя по деревне искать! Курей покормила? Так иди комбикорма им насыпь. Давно уж покормить пора. Как поесть да поспать, все горазды, а работать никого не найдешь! Ночью Лина снова плакала и смотрела в окно. Небо было звездным, ясным, стояла полная луна, лыбилась, как масляной блин. — Бабушка, бабушка, за что ж ты меня так наказала? Ты же всегда любила меня! — Если колдунья была настоящей, на могиле ее вырастает ведьмин цвет — белые мелкие цветы, многочисленно распускающиеся на ветках куста. Цветы эти без запаха и без вкуса, но, будучи сохраненными, обещают ведунье долгую жизнь, и никто ей не причинит вреда, пока цветок засушенный хранится в надежном месте. Лина стояла у окна, чувствуя необыкновенную легкость в теле. Птицей она себя чувствовала, толкнись от земли — полетишь. А к чувству легкости необыкновенной примешивалась черная тоска: вот уже и подружек не стало, а в двенадцать лет одиночество тяжело переносится, куда тяжелее, чем в старшие возраста. В углу золотисто светилась паутина. Невидимая днем, она сейчас проступала в темном пространстве отчетливыми сверкающими нитями, и по одной из них спускался желтоватый светящийся паучок. Был он скорее забавен, чем страшен, но звучащий в голове Лины голос вновь испугал ее: — Паук домовой предвещает удачу. Если тебе перестало везти вдруг или неведомо откуда несчастья накинулись, поймай мокротника, скатай его в малый шарик и проглоти. Утерянная удача к тебе возвернется, и более того — везти будет во всем, даже если ты того не желаешь. Гадость какая — пауков глотать! Лина почувствовала, что ноги замерзли, и заторопилась в постель. На прощание она еще раз посмотрела в окно. Звездное небо заволокло тучками, одна из них, самая большая, закрыла Луну, и девочке на мгновение показалось, что на краю тучки кто-то сидит, свесив ноги вниз. Конечно же этого не могло быть! Как говорила мама Лины: не в сказках живем!Глава вторая
И это действительно так. Живем мы отнюдь не в сказках. Нас окружает серая действительность, которой так не хватает мифов и легенд. А когда мы со сказкой сталкиваемся, то бежим от нее без оглядки. И сторонимся тех, кто сказкой живет. Нам больше по душе любители пива и колбасы, нежели сказочники. Сказочников мы почитаем за странных людей, не от мира сего, и считаем, что с головой у них не в порядке. А на самом деле у них с головой все нормально. Это у нас в голове сумбур и потемневшая солома вчерашних предрассудков. В классе Лины сторонились. Постепенно она осталась в одиночестве. Бывшие подружки отводили взгляды, но видно было — побаиваются. А скорее всего, родители им не разрешали дружить с колдуньей. Сами взрослые с Линой разговаривали осторожно, словно не девочка была перед ними, а видавшая жизнь старушка. — Говорила тебе! — горько вздохнула мать. А чего она говорила? Лучше бы объяснила все, Лина, может, сама не полезла бы бабушке воду подавать! Однако в глубине души Лина чувствовала, что все равно она бы пошла к умирающей бабушке с кружкой. Нельзя, чтобы любимому человеку было плохо, особенно если он умирает. А Лина бабушку любила. Лето в год смерти бабушки было жарким, поэтому плодовые деревья зачервивели. Гусениц на них было столько, что хоть вместо яблок собирай. В один из таких жарких дней Лина вернулась с поля, куда коз гоняла, и увидела во дворе своего дома всех соседей. — Бабка, ты это, — сказал пузатый и похожий на самовар отец Светки Самсоновой, которого все бабы деревни звали по имени-отчеству — Федор Иванович, а мужики запросто — Самоваром, — скажи Линке, пускай с садов порчу снимает. Ты, Шурка, знаешь, мы к вам со всей душой, только ведь непорядок — сама на деревья посмотри! — Да, Господи, — сказала мать Лины. — Чего ты хочешь с дитя? И ведь не факт, совсем не факт, что Дарья Степановна ей свой дар передала. Мало ли, ну подала воды, так, может, они и руками-то не коснулись. А вы девку вконец затравили, в школе никто рядом сидеть не хочет! — Я в детские дела не лезу, — густо сказал Федор Иванович и покраснел. — А что касаемо сада, то сроду такого не было, каждый листок в плесени да паутине! Нет, Александра, это ваше дело, семейное, а мое дело предупредить. Народ-то все видит, пусть пока и молчит. — Окстись! — сказала мать Лины. — Потом самому стыдно будет! Ты что, с дитем воевать собрался? — Мое дело предупредить, — снова непонятно сказал Федор Иванович, увидел Лину, закашлялся и пошел со двора, отставляя руки от массивного туловища и тем самым оправдывая кличку. За ним потянулись остальные. Лину они обходили с опаской, словно змея лежала у них на дороге, а не тринадцатилетняя девочка стояла. — Вот! — вздохнула мать. — Слышала? Теперь все грехи на нас вешать начнут: корова там у кого заболеет, ребенок родится неправильный… Бабка-то все поправить могла, а с тебя-то что взять? Шваркнула тряпку на ступеньки крыльца и ушла в дом. Вечером Лина пошла в сад. Листочки и в самом деле даже на абрикосах скрючились, а в скрутках серела густая паутина. Ей было жалко деревья, которые ели серые равнодушные ко всему, кроме пищи, червяки. Червяки оставляли за собой паутину, некоторые уже свернули листочки и окуклились, ожидая времени, когда станут красивыми бабочками. И помочь деревьям было нельзя, разве что… Лина с трудом дождалась следующего утра, встала рано, мать еще корову кормить не ходила, и пошла на луг — собирать в баночку звонкую и душистую утреннюю росу. Она не знала, зачем это делает, но в душе ее жила какая-то старческая уверенность, что она все делает правильно. После этого осторожно пошла по соседским садам и, осторожно оглядываясь по сторонам, брызгала на деревья собранной росой, в которую добавила Утреннее Слово. И все получилось хорошо, и никто ее не видел, только следующим утром деревня была потрясена: над зацветшими в одночасье садами — ну где это видано, чтобы вишни, яблони и черемуха в один день зацветали! — вдруг закружились стаи сказочно красивых бабочек, которых детвора с визгом ловила и засушивала для уроков биологии, которые вел Иван Алексеевич Нифонтов. И еще их ловило множество птиц, среди которых были и синицы, и голуби, и простые деревенские воробьи, которым гербарии не требовались, а постоянно хотелось есть. А после полудня бабочки собрались в одно огромное разноцветное облако, которое поднялось в небеса и улетело куда-то в направлении юга. — За руку не держалась! — хмыкнул пьяный по своему обыкновению дядя Петя. — Слышь, Линка, завтра с похмелуги приду лечиться, готовься! — Пьяный дурак! — сказала ему мать Лины. — Кто тебе сказал, что девочка к этому имеет отношение? Как она могла сделать, по-твоему? — Знаем, знаем, — сказал дядя Петя и попросил у матери Лины червонец до понедельника. Никакого червонца он, конечно, не получил, у них у самих в доме денег мало было, чтобы червонцы разным пьяницам дарить, — все знали, что дядя Петя никогда долгов не отдает. Разговоров об облаке из бабочек хватило на неделю. — Это не ты? — спросила с нетерпеливым любопытством Аня Укустова. — Откуда? — сказала Лина. А зачем ей было признаваться? Ее и так уже ведьмой считали, за то боялись и не любили. Зачем разговоров прибавлять? — Красиво было, — вздохнула Аня. — Первый раз в жизни разноцветное облако видела. А Лина из этого разговора уяснила, что надо быть осторожнее. Доброта добротой, а привлекать к себе внимание тоже не стоило. Это хорошо, что на этот раз ее никто не видел, но могло и иначе случиться. — Линка, Линка, — вздохнула мать. — Что ж ты делаешь? Спалят ведь, запросто спалят! Она заплакала, а Лина пошла на речку Быстравку — купаться. Последнее время купалась она одна, в стороне от остальных. Взрослые смотрели на нее с любопытством и некоторым страхом, детей, которые к Лине тянулись, испуганно одергивали — нечего с ведьмой играть. Не открыто, конечно, а когда девочка не видела. И правильно. Кто же будет с ведьмой ссориться? Себе дороже выйдет. А Лина постепенно привыкала к одиночеству. Больше всего ей нравилось вечерами лежать в пахучем сене, смотреть на разноцветные драгоценные россыпи, вспыхивающие в сухой ломкой траве, и слушать пояснения неведомого голоса, звучащие в ее голове. Голоса были разные — звучные, звонкие, глухие, сипловатые — словно каждая травинка о себе сообщить торопилась. Постепенно Лина научилась разбираться в светящихся травинках, отличать одну против другой. — А плакун-трава, — сообщал тихий голос, — собирается утренней зарею в Иванов день. Без железных орудий, а лучше руками требуется вырыть из земли корень. Приводит она в страх и покорность нечистых духов, смиряет их и делает покорными воле колдовской. Можно плакун-травой изгонять домовых, нечистую силу, что клады сторожат… Рядом завозились, тихонько кто-то вздохнул, кашлянул робко: — Домовых изгонять… Ну прогонишь домовика, кто за домом смотреть будет? Кто стреху поправит, кто фундамент подновит, мышей ночью погоняет, крыс к люльке не пустит? Лина даже не испугалась, просто руку протянула, нащупала маленькое мохнатое тельце с бешено бьющимся сердечком. — Да кто тебя гонит? — спросила она. — Ты ведь не безобразник, зря шалить не будешь и пугать от скуки? Сиди уж… — А я думал, бабка вернулась, — кто-то свернулся калачиком в подоле Лины, едва не мурлыча по-кошачьи. — Значит, не только воды попила… Ты меня почеши за ушами, а я тебе косу заплету, волосы будут расти быстрее… И правду сказал домовой. После этого волосы у Лины расти быстрее стали, а волосы у нее были темные, с завитками, и коса вышла на славу — в руку толщиной и ниже пояса. Такая коса, что каждый второгодник хотел бы дернуть ее, да боялся гнева Лины, разное про нее в домах говорили, но редко что-нибудь доброе. Так ведь бывает, никому ничего плохого не делаешь, а все равно слухи ползут. У городских жителей это называется репутацией, в деревне запросто — людское слово, раз бают, значит, не напрасно. А с домовым у Лины сложились прекрасные отношения. Она его и парным молочком угощала, и вкусненькое из редких материнских подарков припасала, а домовой, которого она звала Седиком за цвет шерстки, тоже про нее не забывал — то крысиный хвостик принесет и научит, как им пользоваться, то подпольный гриб, съев который можно мысли чужие слышать. Но Лина гриб есть не стала, она явных слов о себе наслушалась, к чему же ей чужие неласковые мысли слушать? Расспросила, где он в подполе растет, и оставила без особого внимания. Но не забыла. Кто знает, что из ненужных пока вещей и диковин может в жизни понадобиться? Наступили летние каникулы. Иногда — когда было свободное от домашнего хозяйства время — она уходила дальше от дома, садилась на берегу речки, где гремел по камням и пенился маленькими водоворотиками перекат. Ей не было скучно, она играла со стрекозами, заставляя их собираться в слаженно летающие над водой отряды, а когда это ей надоедало, отправляла стрекоз на ближайшее болото, чтобы они собрали ей уже поспевшую к тому времени бруснику. Стрекозы улетали и возвращались, держа в лапах по ягоде. С легким шуршанием они планировали к поставленному на берегу ведерку, и вскоре оно наполнялись крупными отборными брусничинами, которые Лина приносила домой. Мать вздыхала, недовольно сдвигала брови, но ничего не говорила. К тому времени она с Линой тоже ссориться боялась. Был один случай, которого они оба, хотя и по-разному, боялись и предпочитали не вспоминать. Однажды мать на Лину рассердилась, схватила тряпку, предназначенную для мытья полов, замахнулась на девочку. Замахнулась и села, замирая от режущей боли в груди. Боль не отпускала долго, пришлось даже лечь на постель и отпаиваться валерьянкой. Лина принесла ей в стакане воду, но мать оттолкнула руку, потому что считала дочку виновной в неожиданном приступе. А Лина была ни при чем, она даже не подумала ничего, просто не хотела, чтобы мать ее била не по делу. И все равно после этого случая между ними легла странная отчужденность, ну, как при ссоре большой между девочками бывает — вроде и дружба продолжается, а прежней сердечности и открытости нет. Мать бруснику мочила на зиму в бочке. И грибы сушила, только, когда резала их, морщилась недовольно, замечая на гладкой поверхности шляпок ровные строчки еле заметных проколов. Она была права, грибы Лине ежики помогали собирать, она созывала их на полянку, и ежи, смешно пыхтя, разбредались по пролескам и полянам, возвращаясь с боровиками и подосиновиками да подберезовиками, крепенькими рыжиками и лисичками, которые взрослые грибники днями искали и найти не могли. А ежики могли, они лес лучше знали. Им грибницы тайными зелеными огоньками показывали себя. В лесу было хорошо, здесь Лина чувствовала себя лучше, чем дома, здесь она вообще не уставала — достаточно было посидеть под старым дубом или среди березок, которые шелестели рядом с болотцем, в котором плавали зеленые пучеглазые растопыренные лягушки. — Среди чаги найдешь зеленое широколистное растение, которое зовется аир, — говорил голос. — Отвар из корня аира восстанавливает кровь, будучи высушенным, корень в сочетании с иными снадобьями способствует омоложению организма и сохранению юных лет… Омолаживаться Лине было рано, а сохранять юные лета ни к чему. Повзрослеть она хотела и поехать в город, чтобы выучиться на доктора. Откуда у нее появилось такое желание — понять нетрудно, ведь каждый ребенок мечтает стать взрослым. А что значит взрослость? В первую очередь это самостоятельность в поступках и полная независимость от других. И желание стать доктором вполне объяснимо — с такой профессией тайные знания скрывать легче, доктор всегда может объяснить, что учился у иностранных и никому неведомых авторитетов, ну, хотя бы у тибетских знахарей или ненецких шаманов. Люди всегда верят, что чужие тайные знания безобиднее местных. Если это соседка, так обязательно ведьма, а если с Тибета — знаток неведомого и тайного. Погуляв по лесу, Лина возвращалась к реке. Напротив села, посреди речки Быстравки лежал огромный камень. Старики говорили, что камень когда-то давным-давно упал с неба. Постепенно он врос в каменистое речное дно, оброс в водяной части водорослями и был теплым — даже зимой, а они на Вологодчине немалые, так вот, даже зимой на том камне снег таял и темная ледяная вода вокруг бурлила, хотя речка к тому времени промерзала чуть ли не до дна. Зимой камень этот напоминал горб медведя, и потому называли его жители деревни Косолапиком. Было забавно сидеть на камне и заставлять мальков, очищающих камень от тины, выделывать в воде разные фигуры, от которых рыбы шалели и забывали, зачем они к камню приплыли. А потом приходилось возвращаться домой. Правда, и там находились дела — корову погладить и дать ей пучок специально подобранных травок, от которых молоко становилось сладким и густым, а сливок, если оставить молоко на ночь, собиралось в ладонь толщиной. Молоко Красавки было гордостью матери, его и учителя Кудратовской средней школы брали, и нянечки межрайонной больницы из соседнего Макарово приходили — просили и себе и больным. А корова была одна, и молока на всех не хватало. Сначала даже очередность пытались установить, но потом одумались и стали брать, кто успеет да вовремя придет.
А еще можно было поиграть с домовым, дав ему клубочек из разноцветных ниток-мулине. Домовой начинал резвиться, пока не запутывался нитками, и тогда его можно было брать голыми руками, но Лина просто сажала его под печь и ставила туда же блюдечко молока, которое Седик, как всячески уважающий себя домовой, ужасно любил. Иногда он рассказывал Лине странные сказки своего племени. Садился ночью в изголовье, маленькими мяконькими ручками начинал перебирать ее волосы, заплетая и расплетая косички, и тоненьким, почти неслышным голосом начинал: — Жила-была нежить, звали ее Новгутамилиносом. И могла эта нежить многое, ведь жила она не в пространстве, а во времени. Что для нас верста, то для нее один час, что для нее столетие — для нас расстояние от Москвы до Вологды. И решила нежить сбегать туда, где звезда над миром стояла размером с яблоко. Время то было жестокое, в те времена первый раз исчезли с Земли люди. Было на Земле тихо и спокойно, все вокруг красным-красно, только мелкие хищники бегают и муравьи размером с коня… Лина засыпала быстро — уставала она за день, а потому никогда не слышала сказки до конца, а когда вечерами просила досказать ей уже рассказанную сказку, домовой Седик принимал озабоченный вид и говорил, что это сказка для ночи и сейчас ее рассказывать просто нельзя — недли могут подслушать.
Глава третья
А в конце лета выяснилось, что Лине надо уезжать. Мать устала от нападок соседей, а может, просто решила, что в деревне Лине трудно будет жить, вот и устроила дочку в городской интернат на улице Бажова. В нем Лине предстояло учиться и жить до окончания школы, и это значило, что все прежнее остается в деревне — и худое, и доброе, — а в Вологде будут у Лины новые впечатления и новые друзья и подружки, а все неприятное потеряет свой смысл. Да к тому же мать считала, что в отрыве от деревни и леса дочка ее изменится, может, забудет даже о даре, что бабка ей по старческому своему недомыслию передала. Когда она уезжала из дома, всю ночь в подполе кто-то скулил и жаловался на жизнь, домовой Седик плакал, размазывая слезы по морщинистому лицу, и корова в хлеву мычала и отказывалась от пищи, а наутро покупатели матери жаловались, что вечернее молоко горчит. Мать везла Лину на попутной машине, которая ехала в Вологду за запасными частями в Сельхозтехнику. Они ехали в кузове, куда водитель бросил соломы и накрыл ее пологом, чтобы мягче сидеть было. Вологда встретила Лину и ее мать обилием золотых колоколен, узкими улицами, состоящими из бревенчатых двухэтажных домов, городской суетой, которая была непривычна после размеренной деревенской жизни. Интернат на улице Бажова был в пузатом двухэтажном доме из черных просмоленных бревен. Во дворе бегало несколько подростков, которые на Лину посмотрели с нетерпеливым любопытством — новенькая, а как же! Лина осталась в коридоре, а мать зашла в кабинет директора и о чем-то долго говорила с ней. Коридор, выкрашенный ядовито-зеленой краской, был наполнен гулкой пустотой, от раскрытого окна волной накатывался последний августовский зной, голоса матери и директора были невнятны, и оттого произносимые ими слова казались непонятными — словно на иностранном языке разговаривали. Наконец мать вышла, поцеловала Лину и даже маленько всплакнула. — Ты тут слушайся, — сказала она. — Сама должна понимать, учителя только добра желают! Вот тут Лина и поняла, что мать уезжает, а она остается наедине с чужим миром. Она вцепилась в мать и заплакала, но никакой плач не помог все повернуть обратно: документы были оформлены, а новая жизнь неизбежна. Мать уехала, а Лина осталась в интернате. Скучно ей было — занятия еще не начались, дети из пионерского лагеря не приехали, ночевать приходилось Лине одной в огромной комнате, где стояли скрипучие кровати с разноцветными матрасами. И Седика не было, никто ей сказки на ночь не рассказывал, поэтому приходилось долго лежать с закрытыми глазами и считать недлей, которых она никогда не видела, но почему-то они Лине представлялись в виде колючек с красным цветком вместо волос. Утром она умывалась и шла в столовую, где ели преподаватели. Пока детей не было! Толстый пузатый повар с масляными глазами приносил ей котлету и слипшиеся макароны на тарелке и кофе, в котором воды было куда больше, чем молока, а сахара почти совсем не было. Он гладил ее по голове и стоял рядом, опустив толстые руки в рыжих густых волосках. От сквозняка волосы на руках повара шевелились, и Лине казалось, что вот сейчас повар ее схватит. Но повар отходил, и тогда Лина быстро читала коротенькое заклинание на вкус, которому научилась у их домашней коровы. После этого заклинания можно было все что угодно есть, все казалось сказочно вкусным, как в ресторане, где Лина была один раз в жизни, когда отец был живой. Он был хороший, и если бы был живой, Лину никогда бы не отдали в интернат. А потом приехали дети. Девчонки с интересом оглядывали новенькую, но знакомиться с Линой никто не торопился. Так, приглядывались. В конце недели приехали шефы и привезли школьные подарки: каждой девочке ранец, в котором лежали расческа, пенал с шариковыми ручками разных цветов, несколько тетрадей, простой карандаш с резинкой на конце и транспортир с циркулем. А еще в ранце был простенький набор цветных карандашей — шесть цветов всего, у Лины дома и то больше был, она даже пожалела, что не захватила его с собой. — А учебники? — растерянно спросила Лина. — А учебники в библиотеке будешь брать, — объяснила ей сидящая рядом худенькая девочка с черными глазами и рыжими волосами, разделенными на два конских хвоста, и тут же деловито предложила: — Давай меняться? Тебе красная ручка досталась, а я красный цвет люблю. Давай я тебе взамен синюю отдам? Лина сама красный цвет любила, но спорить не стала, поменялась, как соседка просила. Та удовлетворенно спрятала ручку в пенал, оглядела Лину и сказала: — А ты ничего. Давай знакомиться, меня Леной зовут! Так у Лины появилась первая подружка в интернате. У Лены мать с отцом пьянствовали, поэтому ее по решению поселкового Совета отправили в интернат. «Родичи у меня синяки, — сказала Лена. — Если начинают синячить, так пока деньги не кончатся. Папаня однажды мою куклу продал, ее мне на Новый год от совхоза подарили. А папаня взял и продал ее в Кубинке на базаре. Ровно за бутылку. А еще они нашего Шарика съели». И кровати у них оказались рядом. Лена рассказывала новой подружке о преподавателях и мальчишках и девчонках, что учились в интернате. Больше всех она ненавидела завхоза — невысокого мужичонку с крысиным личиком и короткой стрижкой. — Ты от него подальше держись, — сказала она. — Такой хмырь! Он к девчонкам пристает… — Как это — пристает? — удивилась Лина. Завхоз был старый и страшный, такому ли к девчонкам с поцелуями лезть? — Если бы с поцелуями, — по-взрослому печально сказала Лена. — Говорю тебе, держись от него подальше. И на склад к нему не ходи, когда попросит помочь. Поняла? Ничего Лина не поняла, но согласно кивнула, чтобы не обижать подружку. Занятия, которые начались с первого сентября, показались Лине легкими. У них в школе и задачи потруднее давали, и ответов по теме требовали более развернутых. Училась она хорошо, а учительница биологии и химии Ада Владимировна прямо выделяла ее из всех остальных учеников. — У тебя, Лина, способности, — говорила Ада Владимировна. — Тебе учится надо. Мы с тобой будем готовиться, чтобы ты в институт поступила. Надо же — в институт! У них в деревне таких не было — все, кто в Завадном рождался, и жизнь свою здесь проживал. Только одна была Анна Быстрова, которая лет шесть назад из Завадного в город уехала, а потом там с ней что-то плохое случилось, только что именно так никто и не говорил, просто объясняли — скурвилась. Что это значило, Лина не знала, только слово было очень плохое, за него детей по губам били. В интернате время тянулось однообразно — занятие, уборка помещений, вечерние игры, а по субботам и воскресеньям в маленьком тесном кинозале показывали кино. Лина здесь увидела кинофильмы «Щорс», «Когда казаки плачут», «Волга-Волга», «Кубанские казаки». «Кубанские казаки» ей не понравились — слишком уж хорошо в деревне жили, так не бывает. Впрочем, поправляла она себя, может, в кубанских деревнях именно так и живут — и ананасы, похожие на большие шишки, у них на столе, и апельсины с мандаринами, которые Лина пробовала один раз в жизни, на новогодние праздники, они тоже едят. И море у них там теплое, как вода в бане. Лине очень хотелось побывать там и посмотреть на море, если уж искупаться нельзя. Вечерами она лежала, глядя в темный потолок, и слушала, как ноет далекий Седик. — Скучно! — скулил домовой. — Зачем ты уехала! Можно подумать, что она сама уезжала! Завхоз подошел к ней в коридоре, бесцеремонно схватил за руку и принялся Лину разглядывать. Так курица на червяка смотрит, перед тем как склевать. — Новенькая? — требовательно сказал он сиплым голосом. — Как зовут? Лина? Это хорошо… Он отошел, а Лина вдруг обнаружила, что одноклассницы на нее смотрят кто с жалостью, а кто и со злорадством каким-то — ага, мол, попалась! — Вот гад, — сказала Лена. — Он и на тебя глаз положил. Слышь, Линка. Ты старайся особо ему на глаза не попадаться, чмырю болотному! Ага, не попадаться! Интернат не город, здесь спрятаться негде. Завхоз, которого звали Арнольдом Николаевичем, встретил ее в коридоре, схватил за руку. — Басяева! Ты чего без дела болтаешься? Пойдем поможешь, мне на складе кое-что посчитать надо. На складе считать оказалось нечего, Арнольд Петрович усадил ее на стул и стал угощать конфетами. Не шоколадными, так — карамельками разными. — Ух ты, Басяева! — сипловато сказал он. И полез к Лине под юбку. — Арнольд Петрович! — попыталась вырваться Лина, но завхоз зажал ей рот потной противной ладошкой и бормотал: — Ничего, Басяева! Ничего! Как говорится, смелость города берет! — а сам рукой наглел все больше и больше, терпежу никакого не было, только хотелось, чтобы все быстрее кончилось, и Лину затрясло, а потом она уже ничего не помнила. Пришла она в себя и увидела, что Арнольд Петрович лежит на полу весь расстегнутый, а лицо и шея у него ярко-красного цвета и в уголке рта слюна пузырится. И глаза у него закрыты, только веки дергаются. Лина испугалась, но все-таки задержалась, чтобы привести себя в порядок, потом выскочила со склада и убежала в спальню. Девчонки, что там были, на нее смотрели с любопытством, но никто ничего не спрашивал, только Лена села рядом, положила Лине руку на плечо и спросила: — Лин, он тебя обидел? Козел старый! — Слушай, Ленка, — сказала Лина. — Ты знаешь, он ничего плохого сделать не успел. Кажется, он умер! — Да ты что? — ахнула подружка. — Ты… его? — Да ты что, — возмутилась Лина. — Сам он, представляешь? А утром приехал милиционер. Был он молодой, шутил со всеми, даже с директором — строгой Верой Ивановной, потом долго разговаривал с учителями, записывая их разговор на бумагу, а потом вызвал в кабинет Лину. — Извините, — сказал он директору, — мы вдвоем поговорим. — Она несовершеннолетняя, — нахмурилась Вера Ивановна. — Без педагога нельзя! — Вот потом и оформим, — весело сказал молодой милиционер и нагло подмигнул ей. Оставшись наедине с Линой, милиционер некоторое время ходил по комнате, потом поставил свой стул напротив Лининого, сел на него верхом и сказал: — Ну, рассказывай! — Что? — не поняла Лина. — Все, как было! — сказал милиционер. И Лина ему все рассказала, и про конфеты, и про рот, который ей Арнольд Петрович зажимал, и про то, как он на полу краснорожий лежал. — А ты его ничем не ударила? — спросил милиционер. — Чем? — снова удивилась Лина. — Ну, не знаю, — сказал милиционер, откровенно разглядывая Лину. — Железкой какой-нибудь… Склад ведь, там все есть. — Была нужда, — сказала Лина и натянула юбку на колени, уж больно пронзительно и нагло милиционер смотрел на ее ноги. — Сам он… — и, вспомнив слова Лены, вдруг почему-то добавила: — Старый козел! — Значит, никаких развратных действий он в отношении тебя не предпринимал? — смущаясь, сказал милиционер. — В трусы лазил, — сказал Лина, застеснялась, опустила голову и шепотом добавила: — Больше ничего! — Иди, — сказал милиционер, тоже не поднимая головы. — Вот здесь подпиши и иди. А потом ее расспрашивала Вера Ивановна и все качала головой, словно совсем не удивлялась рассказу Лины. — Иди, Басяева, — сказала она. — Говорили мне… Вечером перед сном Лина почему-то вспомнила наглого милиционера. Нельзя сказать, что она ничего не понимала, в почти пятнадцать лет дур не бывает, конечно, она понимала, чего от нее хотел Арнольд Петрович и почему ее хватал за колено милиционер. И от этого было особенно противно, потому что Лина все представляла себе совсем иначе, и суженого-ряженого видела совсем непохожим на лысого завхоза и наглого милиционера. Ей суженый-ряженый представлялся кем-то вроде молодого Баталова, чья фотография хранилась у Лины в тумбочке, и виделось все кисейно-воздушным, белым, с розами, которые падали с голубого бездонного неба. Лина полежала немного, поплакала, обижаясь на несовершенство мира, потом поговорила немного с Седиком, узнала последние деревенские новости, а потом вновь в ней заговорил рассудительный голос, который рассказывал ей о мире. — Чистец буквицецветный, — сказал голос. — Многолетняя трава. Цветки собраны в колосовидные соцветия по десять-двенадцать цветков на конце стебля. Собирают в ранней стадии цветения и сушат, тщательно следя за тем, чтобы на заготовку не попали роса или дождь. Запах слабый, ароматный, чуть горьковатый. Настойки чистеца и жидкий экстракт применяются в акушерско-гинекологической практике. Кто-то осторожно коснулся ее плеча. — Линка, — горячо прошептала сидящая на соседней постели Лена. — А он, правда, с тобой ничего такого не сделал? — Ничего, — сказала Лина. — Засипел, задергался, я и убежала. Наверное, сердце не выдержало. — Слюной подавился, — сказала с ненавистью подружка. — У-у, козел!Глава четвертая
Нельзя сказать, что отношение к Лине в интернате изменилось, но некоторые слухи поползли. Арнольд Петрович, как рассказала Лине подруга, еще той сволочью был, пользовался тем, что за интернатских заступиться некому было. А директриса молчала. Или у Арнольда Петровича что-то на нее было, или принцип такой был у директрисы — не встревать в чужие дела, только Арнольду при ней было привольно. Он еще и не такое себе позволял, стыдно рассказывать о его ночных забавах! Только кончились они. — Ты, Линка, молодец, — сказали Лине старшеклассницы. — Даже если этот козел сам копыта откинул, это как же его распалить надо было, чтобы сердце не выдержало! Нашлась среди нас такая, что за себя постоять смогла! А учителя первое время вообще даже спрашивать ее по предметам не стали. Просто ставили в журнал хорошие отметки и все. А об Арнольде Петровиче все быстро забыли. Как и не было его на земле. Постепенно история эта стала забываться. Лина в интернате ничем себя не показывала, вперед не лезла: ну там кактус на классном окне заставит цвести, мышей, что девчонок в коридоре пугали, по ночам спать приучила и лишний раз на глаза не показываться. Иногда она ночами втихомолку лазила на чердак, выбиралась наружу и сидела на крыше, разглядывая серебряную россыпь звезд. Она чувствовала в себе силу, способную сорвать ее с места и унести туда, где среди редких, слабо освещенных облачков плавала круглая улыбающаяся луна. И никогда не пробовала последовать вслед за рождающимися в душе желаниями. Все боялась, что кто-то ее заметит, потом пойдут нехорошие разговоры. На душе было грустно и хотелось домой. Но домой было нельзя. — А я тоже первый год домой хотела, — сказала Лена. — Ну пусть пьют, зато иногда так здорово было! Отец у меня знаешь, как по дереву вырезает! Вырежет птицу — от живой не отличишь. И кто ее, водку эту, придумал? Лина ее утешала. Она сама понять не могла, почему так все происходит: вроде всем хочется, чтобы вокруг хорошо было, никто никому зла не желает, все хотят, чтобы все было хорошо, только вот получается все наоборот. Мать ведь тоже хотела только хорошего, когда ее в интернат отдавала. В самом деле, что делать Лине в деревне, от которой осталось три десятка домов, а скоро будет еще меньше? А город был обещанием новой жизни. Разве мать думала, что в интернате такие гады, как Арнольд Петрович, будут? Разве она думала, что Лине в интернате будет тошно и скучно? Как лучше хотела. И водку, наверное, тоже придумали для веселья, а получилось наоборот — стали люди напиваться до скотского состояния и про детей своих забывать. Учительница биологии Татьяна Сергеевна ничего не сказала, только подошла к парте, за которой сидела Лина, и тихонечко сжала ладонь девочки своей теплой ладошкой, словно показывала, что все она понимает и одобряет поведение Лины, что бы там ни произошло. Так потихоньку эта история и забылась, если бы не мальчишки. Была весна, и мальчишки играли в футбол на маленьком стадионе, что имелся при интернате. А накануне приходили плотники и делали скамейки около забора. Чтобы воспитанники интерната могли посидеть и поболеть за своих ребят. Тоже хотели, как лучше. Только кто-то из них по небрежности бросил долото прямо на траве. А Санька Лютиков из пятого «а» упал в борьбе за мяч с более сильным и массивным Генкой Коробовым из параллельного класса и напоролся на это долото, да так неудачно, что распахал себе бедро от колена до паха. Он выл от боли, катаясь по траве, все вокруг было в крови, визжали девчонки и детвора, а медсестра суматошно металась вокруг и не знала, что ей делать. Тут бес и вытолкнул Лину из ошеломленной и испуганной толпы. Она присела над Лютиковым, зажала рассеченную ногу, словно всю жизнь этим занималась, крикнула: — Ленка! Нарви подорожника, он у ворот растет! И пока подружка собирала подорожник, Лина зажимала рассечение и останавливала кровь, попутно отталкивая руку медсестры, которая все пыталась ей сунуть бинт, кусок ваты или — что еще хуже — пузырек с совершенно ненужным йодом. А потом она окровавленными руками лепила на рану листки травы и все шептала непослушными дрожащими губами заговор от пореза: — На море на Окияне, на острове на Буяне, лежит бел-горюч камень Алатырь, на том камне Алатыре сидит красная девица, швея мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, рудожелтую, зашивает раны кровавые. Заговариваю раба Сашку Лютикова от порезу. Булат прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань… А медсестра сидела рядом в своем красивом тренировочном костюме и причитала, что Лютиков много крови теряет, что «скорую помощь» надо вызвать, только какая это «скорая помощь», если приезжает она через два часа! И медсестра все хватала Лину за руки и зло кричала ей: «Ты что делаешь, дура! Ты врач, да? Врач? Трава же грязная, грязная же трава!» А потом Лина убрала руки, и все увидели, что кровь больше не хлещет, хотя вокруг было — боже не приведи! — в деревенском хлеву так все выглядело, когда там поросенка резали. А физрук и повар, тот самый, с волосатыми руками, схватили Лютикова и потащили его в стационар для больных, а потом туда прошли врачи из все-таки приехавшей «скорой помощи». Лютикову спиртом протерли ногу, словно это не нога была, а колбаса на складе, а когда кровь смыли, то увидели только длинный и неровный белый шов от колена до паха. И врачи спросили Лютикова: «Болит?» — «Ничего у меня не болит!» — сказал Лютиков и свесил с кровати грязные ноги с размытыми следами крови на коже. У него и в самом деле ничего не болело, только покачивало его, уж слишком много крови из Санька вытекло. Но все обошлось, а Лину начали расспрашивать врачи, но не слишком долго — все-таки работали они на «скорой помощи», поэтому им надо было спешить на очередной вызов. Они посмотрели место, где Лютиков напоролся на стамеску, покачали головами и заторопились к больному, у которого был сердечный приступ. Вот тогда директриса Вера Ивановна и сказала во всеуслышание: — Говорили же мне — ведьма! И все в интернате стало иначе. Нет, девчонки и мальчишки не стали относиться к Лине плохо, но теперь они с ней общались как со взрослой — настороженно и беспокойно, словно своей уже не считали. Взрослые тоже на Лину посматривали опасливо — черт знает, что эта девчонка выкинуть может: одних на тот свет отправляет, других — с того света вытаскивает! Это они про Лютикова, врачи в областной больнице сказали, что после такой потери крови взрослый человек не выживает, а уж мальчишка — подавно. Только учительница биологии продолжала относиться к Лине с прежней ровной теплотой. Иногда — особенно в дни, когда вообще становилось невмоготу, подходила к ее парте и накрывала ладошку девочки своей теплой ладонью. И сразу Лине становилось теплее и спокойнее. — Никого не слушай, — сказала Татьяна Сергеевна. — Слушай себя. Люди — дураки, они всегда боятся непонятного. Легко сказать — слушай себя! Тут Седик по вечерам надоедал: и где ты есть, и когда приедешь, и тут без тебя скучно, и стрекозы бестолковые летают, прошлогодней клюквой и брусникой кидаются, хоть на каникулы приедешь, или у вас в интернате и каникул не бывает? Каникулы в интернате должны были начаться в конце мая. Только Лина не знала, приедет ли за ней мать или, как Лене, ей все лето придется бродить по интернатскому двору. Шибко заняты были родители Лены, им за выпивкой некогда было родную дочку навестить. За всю зиму один раз приезжал ее отец, привез Лене кулечек с мятными леденцами. Был он полный и печальный, а лицо у отца Лены было опухшее такое, и волосы на бровях пучками в разные стороны растут, а нос весь в синих прожилках, и из него тоже волосы торчат. Сидел и наставлял дочку вести себя правильно и учиться хорошо, а уже под самый конец огляделся, будто воровать собрался, и сунул дочке какой-то сверточек, и сразу на выход пошел, словно стыдно ему стало. А потом девочки сели на скамеечку у стадиона, развернули красную тряпочку и увидели, что в нее завернута деревянная кукла, только какая — Лина никогда еще таких кукол не видела. В сельпо продавались какие-то пухлощекие уродины с тряпичным телом и негнущимися кривыми руками и ногами, а перед ними была красавица принцесса, чем-то похожая на Лену, с золотой короной на русой голове, с тоненькой шейкой, вся такая спортивная, длинноногая, и ноги и руки у нее гнулись, даром что были деревянные. А надето на куклу было синее платье из шелка и белый платочек из газового шифона, а на ногах были самые настоящие туфельки, только маленькие. — Отец сделал! — с горькой гордостью сказала Лена и заплакала. Лина сидела рядом и гладила ее руки. — А хочешь, — неожиданно сказала она, — будет так, что они пить бросят? Оба? — Не бросят они, — размазывая слезы кулачком, сказала Лена. — Никогда не бросят! — А ты скажи, чтобы они тебя на выходные взяли, — неожиданно для самой себя предложила Лина. — Я тебе скажу, что надо делать. А внутренний голос уже подсказывал: «И ничего сложного, просто все: два корня сапун-травы выварить в ночь на воскресение, а отвар тот добавить в водку, приготовленную к употреблению. А для крепости воздействия произнести заговор: ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, что я хочу делать над телом раба такого-то? Тело Маерена, печень тезе. Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную; а в моей чаше вода из загорного студенца. Месяц ты красный, сойди в мою клеть; а в моей клети ни дна, ни покрышки. Солнышко ты привольное, взойди на мой двор; а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите раба такого-то от вина; месяц, отврати раба такого-то от вина; солнышко, усмири раба такого-то от вина. Слово мое крепко!» Всего-то! — А поможет? — вытирая слезы, спросила Лена. — А то! — засмеялась Лина. — А где же ее взять, эту сапун-траву? — судорожно вздохнула Лена, еще не остывшая от слез. — А это уже моя забота! Знала бы она, что сама себе яму роет! До летних каникул Лена в интернате все-таки доучилась, а затем за ней приехали отец с матерью и документы забрали, потому что оба не пили, а когда все в семье нормально, надо чтобы дети жили с родителями. Никак нельзя, чтобы родители и дети сами по себе были и не зависели друг от друга. И на то, что у Лины они тем самым самую близкую в жизни подругу отнимают, Ленкиным родителям было наплевать. Главное — семейная жизнь постепенно налаживаться стала. А отец Лены даже стал своих хитрых кукол вырезать и сдавать в кооператив, который занимался народными промыслами. Куклы его были в цене, поэтому семейное благополучие тоже быстро возросло, особенно когда водку покупать стало не надо. Прощаясь, Лена протянула подружке куклу. — Держи, — сказала она. — На память. Я теперь дома жить буду и учиться в Масляевке. На летние каникулы мать взяла Лину домой. Лине шел пятнадцатый год — время, когда подросток начинает превращаться из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Мать ее особо не расспрашивала, наверное, с директрисой школы наговорилась. — А иначе нельзя было? — только и спросила она про Арнольда Петровича. И невозможно убедить ее, что никто в смерти старого развратника виноват не был, сам он довел себя до смерти, невоздержанием и жадностью своей. — Поживи лето дома, Басяева, — сказала директриса. — Может, поумнеешь чуточку! В деревню ехали на попутной машине, когда поднялись на бугор и показался луг в сиреневых шариках клевера, Лине захотелось спрыгнуть из кузова и пойти дальше пешком, тем более что Седик уже почувствовал, что она близко, и все от радости опрометчиво порывался выскочить на свет божий. Расчувствовался глупыш, забыл, что никому нельзя показываться. — Приехала, — сказал пьяный по своему обыкновению дядя Петя. Он приехал к дому на тракторе «Кировец», чтобы попросить десятку на выпивку, но мать ему денег не дала. — Видишь, — сказала она, — дите приехало. Откуда деньги, Петро, сама каждую копейку считаю. — Ладно, ладно, — сказал дядя Петя. — А Линка-то вымахала! Совсем городская девка стала. Может, и от глупостей разных излечилась. А десятку все равно дай, там Ванька со вчерашнего мается, места себе не находит. Шлепнул Лину по заднице, засмеялся и полез в «Кировец», который продолжал рычать и пыхтеть рядом с домом. А мать Лине сказала: — Пройдись, пройдись, давно ведь не была, только переоденься сначала — я там тебе платье новое купила. — Я лучше в лес схожу, — сказала Лина.Глава пятая
Лес ее вспомнил и принял сразу. Тропинка, по которой она ходила в прошлом году, заросла колючими кустами и папоротником, но перед Линой кусты раздвигались, и было видно примятую жухлую прошлогоднюю траву. Седик тоже выскочил вслед за ней и теперь прыгал по деревьям не хуже белки. — Смотри! — кричал он тоненько. — Смотри, как я умею! И потешно кувыркался в воздухе. Рад был до невозможности, что Лина домой приехала. — Без тебя такая скука была, — тоненько кричал он. — Блюдца с молоком никто в предполье не поставит, ложки меда в чулан не положит. Я уже и постукивать начал, и шуршать по ночам, только никто ничего не слышит. Вот у тебя мать крепко спит, выпь не разбудит! — А там у вас домовой есть? — спрашивал Седик ревниво. — Я городских домовых никогда не видел, да я и в городе никогда не был! — и лез в колючее от сухих веток акации сорочье гнездо, повизгивая от уколов. — Я тебе сейчас пестренькое яичко достану! — Седик, уймись! — строго сказала Лина. — Тебе триста лет, а ведешь себя так, будто родился недавно. Нарвешься на лешего, он тебе покажет! Они сели на пригорке, покрытом клевером и земляникой. Из зеленых узорчатых листьев выглядывали бледно-розовые ягоды, обещающие налиться соком и ароматами в ближайшие две недели. Белые цветки земляники соседствовали с розовыми звездочками часиков, а чуть в стороне огромной беспорядочной кучей стоял растрепанный зимней непогодой муравейник, который суетливые и неторопливые муравьи постепенно приводили в порядок. Не все, конечно, были среди них и такие, что ночь просидели за пьянящим жуком ламехузой и сейчас бродили, трясли усиками и бились о стволы трав ничего не соображающей рыжей головой. Все как у людей было в муравейнике, все как у людей. А в лесу пахло травами и свежей хвоей, щелкали в чаще раскрывающиеся прошлогодние шишки, вдоль речки буйно цвели желтые одуванчики, а небо было таким, словно его только что выкрасили в синий цвет, — глубоким, влажным и тяжелым. К обеду Лина нагулялась, поиграла на своем камне посреди речки, заставляя юрких рыбок плести в воде серебристые хороводы вокруг Косолапика, приказала неповоротливым ракам принести со дна по красивому прозрачному камушку разных цветов. — Ничего не забыла! — восторженно кричал, сидя у нее на плече, Седик. — Ты даже сильнее стала! А стрекоз вызвать можешь? — Седик, опомнись, — сказала Лина. — Не сезон еще для стрекоз! Вечером она пила прохладное густое молоко, разговаривала с матерью на разные житейские темы, а та хвасталась транзисторным приемником, который ей оставил какой-то заготовитель, немного поживший в их избе зимой. — И Москву ловит, — сказала мать, — и Киев, даже Варшаву и Лондон. Музыку часто хорошую передают. Мне Чайковский понравился, «Времена года» называется. Отучилась-то год хорошо? Троек у Лины не было, и матери это очень понравилось. — Учительши тебя хвалят, — сказала она одобрительно. — Вот только Вера Ивановна говорит, что опять ты глупостями занимаешься. — Поддаться надо было этому старику? — удивилась Лина. — Или пусть Санька Лютиков кровью бы истек, да? — Не мели чепухи, — сказала мать. — Я говорю, незачем свое знание людям выказывать. Не поймут они того. Ох, наградила тебя бабка даром, намыкаешься ты с ним еще! С домовым водишься… Виданное ли дело, чтобы человек с домовым водился? Нечисть в подполе должна сидеть. И не красней, не красней, сама видела, как этот пестрый чулок за тобою в лес увязался! — Разве я кому-нибудь мешаю? — спросила Лина. — Дар у тебя, — грустно объяснила мать. — Не любят люди необычного. Это как гвоздь — только шляпку высунет из доски, его сразу же стараются обратно загнать. Чтобы, значит, не выделялся. Вот и у тебя покою в жизни не будет через необычность твою. Судьба! Я уж плакала в зиму, плакала… И встала, обрывая нежелательный и печальный разговор. — Ложись спать! Завтра с утра по хозяйству поможешь. — Ты ее, Линка, не слушай, — шептал Седик ночью. — Ты мне верь. Все неприятности однажды кончаются. Кончатся они и у тебя. Счастливая ты будешь, солнце позавидует, небо на твое счастье жмуриться станет. Ты только верь! Лето прошло в хлопотах. В начале июня у уток появились утята — маленькие желто-черные пуховые комочки, неуклюже семенящие на розовых перепончатых лапках за степенными мамашами. Они быстро научились есть запаренный комбикорм, а купаться вместе с мамками отправлялись на речку, там, где был изгиб и образовался омут. А потом утята начали исчезать. — Не иначе, сом объявился, — озабоченно сказала мать. — Лина, не давай им туда ходить, иначе без уток к осени останемся. Нечего будет тебе с собой в город положить. — Сом, — подтвердил Седик. — Я сам его видел. Длинный и толстый, как бревно. Он ночами на свет луны выплывает, на лягушек охотиться. — Наказать его надо, — решила Лина. — Пусть знает, что нельзя наших утят хватать! — Он — хозяин, — сказал домовой. — Его в речке все боятся. Он самый большой и сильный. Никто ее не учил, ночные слова сама запоминала. Говорит кто-то ночью, заговоры произносит, бабка, наверное, кому же еще? А Лина слова запоминала. Вот и пригодился странный заговор под непонятным названием «Изгнание из среды». «Будет тесно и душно, вода не вода, земля не земля, воздух не воздух, семья не семья, дом не дом, ночь не ночь и день не день, и захочешь найти покоя, и не найдешь. Пойдешь, полетишь, поплывешь, поползешь, попрыгаешь на все четыре стороны, и не найдешь места для отдыха». Первый раз Лина его применила зимой в интернате, когда клопы их всех мучить стали. И что вы думаете? Сто лет в интернате клопы жили, может, дольше, не одно поколение кусали и кровь по ночам пили. А после заклинания не стало их, только мальчишки нашли в сугробе у черного входа шар из тысяч замерзших клопов и сожгли его на костре с ликующими воплями. Вот тогда трещало в костре! Раньше-то их по одному искали и лучинкой жгли, хотя воспитатели лучинки жечь запрещали, боялись, что дети в азарте интернат сожгут. А тут вдруг целый шар из клопов! Вот уж развлечение! Ночью Лина сбегала на берег, прочитала заговор, лист кленовый бросила, чтобы проплыл против течения. А утром мать пошла белье полоскать, а сом — черный, усатый, бессильно лежал на траве и даже пасть уже не раз-зевал, устал среду для себя искать. И не нашел бы. Ему ведь вода не вода. — Уху сварим, — сказала мать, изгибаясь под тяжестью двухметрового чудища. — И жареха получится, пальчики оближешь. Сходи, дядек позови, чтобы разделали, как надо. Дядя Петя долго выхаживал вдоль сома, все повторял: — Ох, и уловистая ты, Шурка, надо же, какого чудища выхватила. Это каким же ты его манером выудила? На удочку такие не клюют! Но рыбину разделал на несколько кусков и даже пожарить ее взялся, если мать сходит в сельпо и бутылку водочки возьмет. — Под ушицу грех не выпить! — говорил он, ловко орудуя окровавленным ножом. — Ушица сама выпивки требует, без водочки это и не уха вовсе, а так — рыбкин суп! А Лине вдруг до слез стало жалко сома. Жил он себе в глубине, никому не мешал, а что до утят, то природа у сома такая была, люди-то чем лучше, если сами сомом закусывать собрались? Лина пошла на берег и поплакала немного, а реке пообещала, что никогда так больше поступать не будет — страшное дело, оказывается, изгнать существо из своей среды. Она вот в интернате тоже чувствовала себя плохо, потому что ее изгнали из своей среды. А вдруг это кто-то ночью заговор прочитал? Она ходила в гости к прежним подружкам, но увидеться с ними удавалось только вечером, на каникулах многие работали — кто приемщицей зерна на элеваторе, а кто на току. И самое странное — прежней тяги к подругам не осталось. Даже с Анечкой Укустовой говорить было не о чем, так, посидели, поболтали о разных пустяках, Лина про город ей рассказала, Аня — последние деревенские сплетни, а потом они сидели, чувствуя обоюдную неловкость. В кино пару раз сходили. Раньше Лине Дом культуры казался большим красивым зданием, а теперь, после города, он казался ей каменным сараем с нелепыми колоннами. Малолетки ржали и грызли семечки, отчего в зале пахло подгорелым подсолнечным маслом. Скукота! Вот и оставалось, что помогать матери по хозяйству, а в свободное время бегать на речку купаться или бродить по лесу. Ягоды еще не пошли, но были грибы, как их в деревне называли — первыши. Можно было еще поиграть с рыбой в воде или ругаться с сороками в березняке, который они облюбовали для своих гнездовий. Постепенно Лина даже стала скучать об интернате, там, по крайней мере, можно было поиграть в волейбол или позаниматься в швейном кружке, обменяться с одноклассницами выкройками или просто походить по городу, съесть эскимо, если есть деньги, а то и просто поглазеть, как сидящие на скамейках старички кормят голубей крошеным печеньем. Вечерами она лежала в пахучем сене и слушала странные слова, рассказывающие новые рецепты снадобий, заговоры и наговоры. Они запоминались как-то сразу, даже напрягаться не приходилось. — Сажусь в сани, крытые бобрами, и соболями, и куницами. Как лисицы и куницы, бобры и соболи честны и величавы между панами и попами, между миром и селом, так мой нарожденный сын был бы честен и величав между панами и попами, между миром и селом. Еду на гадине, уж погоняет, а сам дюж, у панов и судьев полон двор свиней, и я тех свиней переем. Суд судом, век веком! Сею мак. Разыдутся все судьи, а тыя сидят, что меня едят. Меня не съедят; у меня медвежий рот, волчии губы, свиные зубы. Суд судом, век веком! Кто мой мак будет подбирать, тот на меня будет суд давать. Спрячу я свой мак в железную кадь, а брошу кадь в Окиян-море. Окиян-море не высыхает, кади моей никто не вынимает, и маку моего никто не подбирает. Суд судом, век веком! Замыкаю зубы, и губы злым сердцам, а ключи бросаю в Окиян-море, в свою железную кадь. Когда море высохнет, когда мак из кади поедят, тогда мне не бывать. Суд судом, век веком! Заговор назывался странно — на укрощение злобных сердец. — Страшный заговор! — дышал рядом Седик. — Ты только вслушайся: суд судом, век веком! А вокруг золотился высохший молочный колос, серебрились веточки молочая, вспыхивали то изумрудно, то ало иван-да-марья, душица, чергень, донник и трава валериана, звенел покати-горошек, и лесной табак тонко серел среди многотравья белесым привидением. С середины июля вновь начались забавы со стрекозами. Дом постоянно полнился от свежих ягод, таких крупных и спелых, что ноги на болоте сбей, а не найдешь. Мать догадывалась, откуда ведра и решето ягодами полнятся, да помалкивала — уж больно ягоды были сочны и сладки на вкус. Оно и ведьмачество иногда полезным для дома бывает — столько варенья разного на зиму запасли, сроду такого запаса не было: и пахучую землянику в сиропе, и ежевику крупными ягодами, и голубику, и полевой паслен, и красную смородину, перетертую в желе. Забавно было смотреть, как огромные толстые стрекозы пикируют на ведро с яркими ягодами в цепких лапках, как стремительно заполняется пустое пространство, как ложатся в ведро отборные ягоды, наполняя его сладкой тяжестью. И все равно Лине было скучно. И прежний азарт куда-то ушел. Повзрослела, что ли? Только Седик, травы и лес, да немного мать делали деревню роднее, а так — чужое место было, приросло да отсохло, ветром лет все прежнее унесло.Глава шестая
Каникулы кончились. От этого Лина почувствовала облегчение, жалко только было с Седиком прощаться. — Опять уезжаешь! — плакал домовой. — Я с тобой поеду. В котомку заберусь, тряпицей прикроюсь… Лина, возьми! — Ты же должен дом охранять! — напомнила Лина. — Как же ты от дома уедешь? — И в самом деле, — печально вздыхал Седик. — Ты приезжай быстрее, скучно здесь без тебя, как в поле осеннем. В интернате было все по-старому, только стены в коридоре другой краской покрасили. Раньше все было выкрашено в ядовито-зеленый цвет, который раздражал и пугал, а теперь все стало нежно-голубым, словно по небу идешь. Учительница биологии Татьяна Сергеевна ее приезду обрадовалась. — Здравствуй, Басяева, — сказала она. — Многому за лето в деревне научилась? Была она маленькая, черненькая, яркая — красивая женщина, только вот в личной жизни ей не везло. Первый муж у нее был хороший, только несчастье с ним случилось — не то под машину попал, не то на машине разбился. А второй ее муж Иван Николаевич был красивый, но выпить любил. Татьяну Сергеевну он считал своей собственностью и при случае крепенько поколачивал. И до женщин охоч был. Лине учительницу было жалко. Однажды она не выдержала и сделала примороз: после глотка его на других не глядят, жену свою любят, из рук не выпускают. И вот Лина специально сделала так, чтобы Иван Николаевич ее за водой попросил сходить. Лина сходила, а в кружку с водой примороз и вылила. Иван Николаевич воду выпил. А через две недели, когда занятия уже вовсю шли, биологичка провела урок, а когда прозвенел звонок на перемену, попросила: — Басяева, задержись. Оставшись наедине, она долго мялась, а потом вдруг спросила: — Басяева, чем ты его напугала? — она не сказала «мужа» и по имени его не назвала, но понятно было, о ком речь идет. — Он теперь из дома не выходит, только на работу, — сказала Татьяна Сергеевна. — И с работы меня встречает. Знаешь, он ведь даже цветы мне покупать стал. Никогда в жизни не покупал, а теперь покупает, — и заплакала. И опять Лине стало плохо. Вроде старалась, хотела, чтобы Татьяне Сергеевне было хорошо, а что получилось? Ну почему, почему все так плохо получалось? Вечером от тоски и ощущения собственной бестолковости Лина забралась на чердак и вылезла на крышу. Она долго сидела на теплой шероховатой жести, глядя в ночное небо. Звезд в небе было много, над городом висел тонкий желтый серп нарождающейся луны. Луна притягивала взгляд, казалось, она обладает таинственной силой. Глядя на нее, Лина чувствовала себя уверенно. Она даже встала и, балансируя руками, прошлась по краю крыши, чувствуя, как под ногами прогибается жесть. А когда она пошла обратно, жесть уже не прогибалась, словно Лина лишилась веса. И в самом деле, она даже не заметила, что оступилась, а потом вдруг обнаружила, что идет спокойно по воздуху! Воздух пружинил под ногами и не давал упасть. Земля была где-то внизу, ее почти не было видно в ночном сумраке, из которого призрачно выплывали кусты. На мгновение Лину охватил ужас, сердце ушло куда-то вниз, а живот и ноги ощутили сосущую пустоту, притягивающую к земле. Но Лина не упала, а просто шагнула еще раз и оказалась на лестнице. Ощутив твердую перекладину лестницы бедрами, Лина сразу успокоилась. Некоторое время она приходила в себя, размышляя над тем, что случилось. — Ничего страшного, — сказал голос. — Просто ты обретаешь крылья. Это лишь первые шаги. Разве ты не знала, что умеешь летать? Это умеют все дети, просто, взрослея, они утрачивают такую способность. Правда? А Лина этого не знала. Успокоившись, она огляделась и снова попробовала пройтись по воздуху. Сначала ей это удавалось плохо, она словно проваливалась по колено в глубокий снег, продолжая чувствовать подошвами жесткую упругость. Постепенно она осваивалась, воздух становился послушным ей, он становился по желанию жестким или рыхлым, растекался, словно вода, охватывал тесно, словно резина, он был таким, каким его хотела ощущать Лина. Бродить по воздуху было занятно, дух захватывало от будущих приключений. Теперь Лина вспомнила все — и то, как ее ругала мать, когда она сбегала через речку за красивыми цветами, и то, как ее бабка гладила по голове сухой рукой с вздутыми венами и приговаривала: «Красный дар у тебя, Линек! Танцевать тебе на краю облака, горемычная моя!» Спалось ей плохо. Снился Лине домовой Седик, и пригорок их любимый, поросший бело-розовой земляникой, снился ей дядька Иван, и пьяненький по своему обыкновению дядя Петя, и рыбки снились, а под утро в ее сне стали парить в воздухе зеленоглазые, шуршащие крыльями стрекозы, которыми управляли маленькие человечки. Один из них опустил стрекозу на плечо Лины, прокричал ей в ухо тоненьким голосом: — Понравилось летать? Правда, здорово? Ну тогда — подъем! И Лина поняла, что надо вставать и идти на физическую зарядку, хотя именно этого ей не хотелось делать больше всего на свете. А история с Татьяной Сергеевной имела свое неожиданное продолжение. Нет, Татьяна Сергеевна никому ничего не рассказывала и с Линой о своем муже даже не заговаривала. Лину к себе вызвала директор интерната Вера Ивановна. — Это ты, — сказала она ненавистно, едва они вдвоем оказались в директорском кабинете, — ты во всем виновата! Знала, что я тебя не люблю! Ну зачем, зачем ты это сделала, гадкая ведьма? Оказалось, что от Веры Ивановны ушел муж, а она в этом винила Лину. Конечно, а кого же еще, если не ту, о которой ходят разные слухи? Если раны умеет заговаривать, кровь останавливать, мужика сладострастного в гроб загнала, то ведь и на другое способна! Губы у Веры Ивановны тряслись, руки ходуном ходили, а смотрела она так, что будь ее воля, испепелила бы дерзкую девчонку на месте, чтоб пепла от нее не осталось. — Ты! — громко шептала Вера Ивановна. — Ты это сделала! Ты отомстила за то, что я тебя не любила! Дрянь! Дрянь! И вдруг упала перед Линой на колени. — Верни мне его! Слышишь, верни! — Встаньте, Вера Ивановна! Встаньте! — испуганно бормотала Лина. — Ведь увидеть могут! Стыд-то какой! Господи, да встаньте же! И пообещала. А куда ей было деваться, если директриса уже начала ей руки целовать, и взгляд ее из-под растрепанных волос был мутным и ничего не соображающим. Приворотное зелье готовить несложно, если ты в деревне живешь и все под рукой. А попробуй в городе его приготовить! Семь потов сойдет, пока все составные части найдешь и воедино сольешь их. Труднее всего было капельку крови бывшего мужа Веры Ивановны найти. У нее он не жил и от встреч с ней оберегался. Только ведь не зря говорят, что любящая женщина может невероятное. — Вот, — сказала Лина, отдавая Вере Ивановне аптечный пузырек с темно-зеленой жидкостью. — Добавьте в еду или питье. — А если не поможет? — глухо и испуганно спросила Вера Ивановна. — Да вы не волнуйтесь, поможет, — успокоила ее Лина, хотя сама готовила приворотное зелье первый раз в жизни. Помогло, да не очень. — Он стал совсем другим, — гневно сказала Вера Ивановна, когда муж ее вернулся домой. — Он стал ленивым, небрежным, он ничего не хочет делать дома… Он даже ко мне совсем равнодушен! Верни мне прежнего Пашку! Что ты с ним сделала, дрянь? А что Лина могла сделать с ее мужем, если она никогда в жизни его не видела? Но разве это объяснишь тому, кто ничего понимать не хочет? Для Лины наступили трудные времена. А тут еще и она сама первый раз в жизни влюбилась.Глава седьмая
Колька Быстров в интернате не учился, но часто приходил во двор — с пацанами в «дыр-дыр» поиграть. Это что-то вроде футбола, только играют в него пять человек на пять или шесть человек на шесть, а ворота маленькие и без вратаря. Чаще даже и ворот-то никаких не было, просто размеченное пространство, обозначенное двумя белыми кирпичами, поставленными «на попа». Был он высок, крепок в плечах и постоянно улыбался. У него были нахальные и вместе с тем нежные голубые глаза, трогательная ямочка на подбородке и заметная щербинка между передних верхних зубов. Ну, такой он был, что при виде его у Лины ноги слабели, и голова кружилась. И очень хотелось, чтобы он на нее посмотрел, и не просто посмотрел, а заметил. Колька Быстров был на год старше Лины, а фасонил так, будто еще старше был. В тот день, когда Лина его увидела, ей все время хотелось совершить что-то невероятное, может быть, именно поэтому она вечером поднялась на крышу, посидела немного, собираясь с духом, и ступила на воздух, в который раз поражаясь его упругости и прочности. И всего-то надо было поймать уносящийся вверх воздушный поток, чтобы тебя унесло к облакам. Невидимую землю под Линой усеивали тысячи огоньков, словно свечки внизу горели, улицы были обозначены правильными линиями таких огоньков, и еще горели церковные купола, а там, где должен был находиться городской центр, полыхало разноцветное неоновое марево. Лина поднялась еще выше и оказалась в странном мире, где над головой светились и подмигивали звезды и под ногами тоже светились и подмигивали звезды. Только звезды над головой время от времени закрывали редкие облака, а звезды на земле ничего не закрывало. Лина добралась до облака, оно оказалось холодным и мокрым, оно липко обняло девочку, заставляя дрожать от холода. Лина поднялась еще выше, вырвалась из объятий облака и оказалась над ним. Она повисла над облаком, развела руки и закружилась, слыша странную дивную мелодию, под которую было хорошо танцевать. И звезды кружились вокруг нее, и редкие метеоры вспыхивали в черной бездне, расчерчивая небеса стремительными желто-красными полосками. И хотелось плакать — только Лина не могла понять отчего: от тоски и ожидания любви или небесного одиночества. Она замерзла и спустилась ниже, а потом и вовсе спланировала на крышу, прошла крадучись по гулкому пустому коридору и остановилась у большого старинного зеркала, что было установлено в нем. Из зеленоватой глубины зеркала, походившей на воды омута, на нее глянула прелестная девушка. Мокрые завитые кудели черных волос липли к щекам, жарко блестели глаза, и губы были твердыми и пунцовыми от холода. Она чувствовала, что становится красивой. С одной стороны, ей это очень нравилось, а с другой — она боялась будущей красоты, потому что ожидала от нее новых несчастий. — Слышь, мелкая, — лениво сказал при встрече Колька Быстров. — Тебя как зовут? И сердце Лины заколотилось часто-часто, словно воробей в груди колотился и пытался выбраться на свободу. Так и познакомились. Колька приглашал ее в кино, а когда гас свет, лез целоваться и наглел руками. Поцелуи его Лине не нравились, что может быть хорошего в холодных прикосновениях слюнявых губ? Лине казалось, что вот влюбится она и вся ее жизнь переменится, пресные дни станут сказочными, а ничего такого не происходило: уже через неделю Колька стал считать ее своей собственностью. Интернатских мальчишек, с которыми Лина дружила, зачем-то побил. — А пусть не глазеют, — коротко отрезал он, когда Лина стала его в этом укорять. И ничего хорошего в этой самой любви не оказалось, все было совсем не так, как Лина читала в повести о дикой собаке Динго и любовных романах, которые к тому времени стали продаваться в газетных киосках и лежали под подушками почти у каждой девчонки из их интерната. — Слышь, мелкая, — сказал Колька Быстров. — Вот мы с тобой уже двадцать дней встречаемся, а у нас ничего не было. — А что у нас должно быть? — не поняла Лина. — Ну, — немного смутился Колька, — ты что — глупая? Сама не понимаешь? — Отстань, дурак, — краснея, сказала Лина. — Рано еще. А сама чувствовала, что если Колька настаивать будет, ей долго не продержаться. Хотя ей и не нравилось очень многое в их любви, все равно при виде Быстрова у нее в душе все съеживалось и она была готова бежать ему навстречу и терпеть даже самые неприятные его выходки. Не зря же говорят, мол, любовь зла! Чего ж удивляться, если она однажды уступила его наглой настойчивости в парке? Все случилось на редкость обыденно и неромантично, и больше всего Лину раздражало его сопение над ее ухом, и больно было, и стыдно, до того стыдно, что Лина проплакала всю ночь, злясь на себя и на Кольку, но все-таки больше на себя, способную защитить кого угодно, только не себя. А еще через неделю Колька ее стал избегать. Лина ничего не могла понять, она, как дурочка, бегала за ним, передавала записки через девчонок, хотела поговорить и объясниться, но Кольке никакие объяснения не были нужны, он, завидев Лину, разворачивался и уходил прочь, гадость этакая! Но однажды Лина подстерегла его в беседке. Колька в ней сидел с двумя мальчишками из интерната, и они тайком курили сигареты «Прима». При виде Лины мальчишки из интерната сразу же ушли, оставив девчонку наедине с Колькой. — Ну что тебе? — выдохнул синий дым Колька. — Коль, ну давай поговорим, — сказала Лина. — Я ничего не понимаю. — А чего тут понимать? — пренебрежительно сказал Колька. — Ты какой гадостью меня опоила, ведьма? Думала, я не узнаю? — Ты чего? — испугалась Лина. — Кто тебя опаивал? — Ведьма, — плюнул в нее сигаретным дымом Колька. — Ведьма! Ведьма! Катись отсюда! Не о чем нам разговаривать! Коз-за! Но ушла не Лина, а он сам ушел, оставив бывшую возлюбленную в истерической растерянности: «Бабушка, ну что ты натворила? Ну зачем мне нужен этот проклятый дар? Ничего у меня в жизни не получается, я даже влюбиться нормально не могу! Видишь, что из этого получилось?» И можно было изготовить приворотное зелье, только Лина уже обожглась на этом, у нее из головы не выходили упреки учительниц, а поэтому она даже затеиваться не стала — что хорошего, если любят тебя, подчиняясь колдовству, а не вкладывая в это жар души? Такая вот получилась печальная любовь. Ничего хорошего она Лине не принесла — только мокрую от слез подушку пришлось на солнце сушить, и горечь во рту осталась, словно кору осины жевала. — Плевать, — сказала Янка, которая стала лучшей подругой Лины в начавшемся учебном году. — Ты — красивая, за тобой еще многие бегать будут! Сама она была маленькая, ладно скроенная, рыжая, с густыми конопушками на задорном и всегда веселом лице. И еще очень важное свойство у Янки было — она никогда не унывала сама и другим унывать не давала. — Ты, Линка, не думай, — сказала Янка. — Он мизинца твоего не стоит. Ты в зеркало поглядись, какая ты красивая! Ведьмы такими не бывают! — А какими они бывают? — вытирая слезы, слабо улыбнулась Лина. — Ну, не знаю, — задумалась Янка и стала похожа на чертенка, который придумывает очередное баловство. — Старые они, уродливые, — и показала рукой, — вот с таким носом! — Но ведь каждая ведьма когда-то была молодой, — сказала Лина. — Это в старости они становятся уродливыми! — Да ты что! — замахала руками Янка. — Они и рождаются такими! В ночь, когда закончилась ее первая любовь, Лина улетела далеко-далеко, сидела на облаке, смотрела на сонную недовольную луну, и плакала до тех пор, пока не стало слез. Утром она обнаружила, что улетела слишком далеко, добиралась домой изо всех сил и едва успела. Удивительно ли, что она заболела? Температура у нее оказалась высокая, врачиха ее посмотрела и безапелляционно сказала: «ОРЗ!» И только Янка, которая два дня просидела рядом с больной, поила ее теплой противной водой и таскала конфеты, купленные на последние деньги в магазине напротив интерната, знала, что это никакое не острое респираторное заболевание, а просто случилась несчастная любовь — и все!Глава восьмая
Лина поболела два дня, а на третий день в палату, где она лежала, пробрался домовой Седик. В интернате была палата, куда клали больных учащихся, чтобы они не заразили остальных, называлась она медицинским изолятором. Вот туда Лину и положили. Седик пробрался в палату, положил узелок на тумбочку, лег в головах у Лины и принялся заплетать ее волосы в косички. Домовые всегда так поступают, когда хотят вылечить кого-то. Только на этот раз у Седика не очень-то получалось, потому что он лечил тело, а следовало лечить душу. Но Седик про это не знал. Вот и лечил по-своему, как предки учили. — Седик… — растерянно и радостно сказала Лина, открыв глаза. Черная мордочка домового, обрамленная всклокоченными седыми волосами, была довольной и озабоченной. — Я тут тебе травы принес, — сказал Седик. — Отварить надо! — Сам собирал? — не поверила Лина. — Скажешь тоже, — смутился домовой. — Я и названий-то не знаю. Корова помогала! — Так она тоже названий не знает! — рассмеялась Лина. — Разбирается, — сказал Седик. — За жизнь столько сена перемолотила, поневоле разбираться начнешь. — И напомнил: — Заварить бы надо! Я на кухню сбегаю — кипятка принесу! — Сиди уж, — сказала Лина. — Ты там всех напугаешь, тебя же ловить начнут. Или подумают, что крыса завелась, дезинфектора вызовут, травить начнут, потом все здание вонять будет. ...Все права на текст принадлежат автору: Сергей Николаевич Синякин.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Купить эту книгу в ЛитРес
Купить эту книгу в ЛитРес