Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
Ричард Роудс Создание атомной бомбы
Научные открытия, если их рассматривать как рассказ о человеческих достижениях и человеческой слепоте, составляют один из величайших эпосов.Роберт Оппенгеймер
В предприятии, подобном созданию атомной бомбы, разница между идеями, надеждами, предположениями и теоретическими расчетами и точными цифрами, основанными на измерениях, играет огромную роль. Никакие заседания, политиканство и планы ничего не значили бы, если бы оказалось, что несколько непредсказуемых сечений ядерных процессов отличаются от существующих в два раза.Richard Rhodes THE MAKING OF THE ATOMIC BOMBЭмилио Сегре
На английском языке впервые опубликовано издательством SIMON & SCHUSTER Inc.
Перевод с английского Дмитрия Прокофьева
© 1986 by Rhodes & Rhodes © 2012 by Rhodes & Rhodes, предисловие © Прокофьев Д. А., перевод на русский язык, 2020 © Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020 КоЛибри ®
* * *
Посвящается памяти Джона Кушмана (1926–1984)
Автор признателен Фондам Форда и Альфреда П. Слоуна за поддержку во время подготовки и написания этой книги.
Русский перевод посвящается памяти Александра Николаевича Прокофьева (1932–2018), связавшего свою жизнь с ядерной физикой`
Предисловие к юбилейному изданию в честь 25-летия книги
За семь с лишним десятилетий, прошедших с момента его зарождения перед надвигавшимся штормовым фронтом Второй мировой войны, Манхэттенский проект постепенно превратился в бледный миф. Огромные производственные реакторы и установки для очистки плутония в Хэнфорде, штат Вашингтон, почти километровой длины фабрика по обогащению урана в Ок-Ридже, штат Теннесси, несколько сот тысяч сотрудников, строивших и эксплуатировавших это гигантское оборудование, умудряясь при этом хранить в тайне его назначение, – все это исчезло из виду. Остался лишь голый костяк легенды: секретная лаборатория на плато в Нью-Мексико, харизматичный директор лаборатории, американский физик Роберт Оппенгеймер, бывший после войны видным международным деятелем, пока его положение не подорвали недоброжелатели, одинокий бомбардировщик с нелепым именем «Энола Гей», доставшимся ему от матери летчика, да стертый с лица земли город Хиросима – причем о бедствиях разрушенного Нагасаки почти забыли. Едва ли не мифическим кажется и само оружие – кроме тех случаев, когда его пытаются заполучить враги. Нас предупреждают, что появление новых ядерных держав опасно; старые ядерные державы охраняют мир. Молодая исследовательница Энн Харрингтон де Сантана установила, что ядерное оружие приобрело статус фетиша. Наши блестящие боеголовки стали выражением могущества страны подобно тому, как национальная валюта является выражением товаров: «Если доступ к богатству, выраженному в виде денег, определяет возможности индивидуума и его место в социальной иерархии, доступ к могуществу, выраженному в виде ядерного оружия, точно так же определяет возможности государства и его место в международном устройстве». Поэтому большинство промышленно развитых стран в какой-то момент после 1945 года рассматривали возможность приобретения ядерного оружия, и ни одна из них так и не осмелилась его применить. Будь бомбы на самом деле использованы, это обрушило бы всю систему. Опасность применения ядерного оружия была одной из причин, по которым я решил в 1978 году написать историю разработки первых атомных бомб (другой причиной было обнародование основной массы бывшей до тех пор засекреченной документации Манхэттенского проекта: это позволяло писать, опираясь на документы). В то время ядерная война казалась гораздо более близкой, чем сейчас. В конце 1970-х и начале 1980-х годов, когда я собирал материалы для этой книги и писал ее, создавалось впечатление, что гонка ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом ускоряется. Меня, как и многих других, тревожило, что какая-нибудь случайность, небрежность или недоразумение может привести к катастрофе. Советский Союз воевал в Афганистане и, как считал президент Джимми Картер, наступал в направлении Аравийского моря и богатого нефтью Ближнего Востока. Картер поклялся, что Соединенные Штаты не допустят такой экспансии, даже если для этого придется вести ядерную войну. Советы твердо намеревались нарастить свой ядерный арсенал до размеров американского: решение об этом было принято после Карибского кризиса 1962 года, в котором президенту Джону Ф. Кеннеди удалось заставить их отступить перед угрозой ядерной войны. Чем ближе они подходили к состоянию паритета, тем воинственнее требовали крови американские правые. Рональд Рейган, избранный президентом в 1980 году, не только увеличил оборонный бюджет США более чем в два раза, но и отзывался о второй ядерной сверхдержаве в весьма вызывающих выражениях: он называл ее «империей зла» и «средоточием зла в современном мире». Советский Союз сбил отклонившийся от курса корейский авиалайнер, попавший в воздушное пространство СССР, причем все, кто был на его борту, погибли. Проведенные в 1983 году с участием глав государств – членов НАТО учения под названием Able Archer[1], в сценарий которых входили события, непосредственно предшествующие ядерной войне, настолько испугали советское руководство во главе с тяжело больным Юрием Андроповым, что оно чуть не нанесло первый ядерный удар. Какими бы тревожными ни были эти события, мне было трудно поверить, что такой умный и гибкий биологический вид, как наш, добровольно уничтожит сам себя, хотя он добровольно создал средства, позволяющие это сделать. Я хотел узнать, не существовало ли в самом начале, еще до того, как первые бомбы испепелили два японских города и кардинально изменили природу войны, альтернативных путей развития, отличных от того, по которому шли теперь и мы, и Советы. Зачем мы накопили в общей сложности семьдесят тысяч единиц ядерного оружия, когда всего нескольких штук было бы более чем достаточно для взаимного уничтожения? Почему вся холодная война была в первую очередь военным противостоянием, если существование ядерного оружия делало любое прямое военное столкновение между сверхдержавами самоубийством? Почему, с другой стороны, несмотря на всю риторику и демонстрации силы, после Нагасаки не был взорван в бою ни один ядерный заряд? Мне казалось, что вернувшись к началу – и даже ко времени, предшествовавшему этому началу, когда высвобождение колоссальной энергии, скрытой в атомных ядрах, было просто интересной и трудной физической задачей, – я, возможно, смогу заново открыть забытые пути, которые, если к ним снова привлечь внимание, могли бы привести к чему-то отличному от нависающей угрозы ядерного апокалипсиса. Такие альтернативные пути действительно существовали. Я, как и многие другие до меня, выяснил, что они были спрятаны на самом видном месте. Поместив их в центр своей книги, я попытался заново привлечь к ним внимание. «Создание атомной бомбы» стало общепризнанным пособием по предыстории и истории Манхэттенского проекта. Книга была переведена на дюжину разных языков и издавалась по всему миру. Я достаточно общался с государственными деятелями, как в США, так и за границей, чтобы знать, что ее широко читали в пентагонах и белых домах. Благодаря этому она внесла свой вклад в распространение понимания парадокса ядерного оружия. Я говорю не о парадоксе сдерживания, который питается тем самым фетишистским наваждением, которое описывает Харрингтон де Сантана. Я имею в виду тот парадокс, который первым сформулировал великий датский физик Нильс Бор: хотя ядерное оружие является собственностью конкретных национальных государств, которые притязают на право владеть им и использовать его для защиты своего национального суверенитета, его тотальная разрушительность делает его общей опасностью для всех, подобной эпидемическому заболеванию, и потому, как и эпидемическое заболевание, оно выходит за пределы государственных границ, споров и идеологий. Я включил в эту книгу такую долгую предысторию Манхэттенского проекта – историю ядерной физики от открытия радиоактивности в кон-це XIX века до открытия деления ядра в нацистской Германии в конце 1938 года – отчасти потому, что считал: понять, чем именно были революционны атомные бомбы, я смогу, только понимая их физику, насколько ее вообще может понять неспециалист, и предполагал, что читатель также захочет ее понять. В университете у меня был лишь краткий курс физики, но из него я узнал, что ядерная физика – наука почти полностью экспериментальная. А это означает, что открытия, которые привели к созданию бомб, были следствием физических манипуляций с предметами в лаборатории: возьмем эту металлическую коробку, установим в нее радиоактивный источник, вставим образец, проведем измерения таким-то прибором, получим такой-то результат и так далее. Когда я освоил профессиональный жаргон, я смог прочесть классические работы в этой области, представить себе эксперименты и понять открытия – хотя бы постольку, поскольку они касались создания бомб. Впоследствии я понял, что обзор истории ядерной физики послужил и еще одной цели: он позволил опровергнуть наивное верование, что, когда было открыто деление ядра, физики могли собраться (это в нацистской-то Германии!) и договориться сохранить это открытие в тайне, тем самым избавив человечество от ядерного бремени. Нет. Учитывая развитие ядерной физики до 1938 года, которому способствовали физики всего мира, не имевшие ни малейшего намерения изобрести новое оружие массового уничтожения, – лишь один из них, замечательный американский физик венгерского происхождения Лео Сцилард, всерьез рассматривал такую возможность, – открытие деления ядра было неизбежно. Чтобы предотвратить его, нужно было прекратить заниматься физикой. Если бы немецкие ученые не сделали этого открытия тогда, когда они его сделали, вместо них то же явление открыли бы ученые британские, французские, американские, русские, итальянские или датские, причем почти несомненно всего через несколько дней или недель. Все они работали на одних и тех же передовых рубежах, пытаясь понять странные результаты простого эксперимента с бомбардировкой урана нейтронами. Речь вовсе не шла о сделке с дьяволом, какие бы глубокомысленные выводы до сих пор ни извлекали из этого образа кинорежиссеры и другие дилетанты. Речь не шла о неких губительных механизмах, которые благородные ученые могли бы спрятать от политиков и военных. Напротив, речь шла о новом понимании устройства мира, об энергетической реакции более древней, чем сама Земля, реакции, которую наука смогла выманить на свет, наконец-то разработав необходимые для этого приборы и методы. «Представляйте их неизбежными», – советовал Луи Пастер своим ученикам, когда они готовились описывать свои открытия. Но это открытие и было неизбежным. Мечтать, чтобы оно было оставлено без внимания или замолчано, – варварство. «Знание, – заметил однажды Нильс Бор, – само по себе является основой цивилизации». Второй не бывает без первого; вторая зависит от первого. При этом знание не может быть только благодетельным; научный метод не отбирает по благодетельности. Знание порождает последствия – не всегда намеренные, не всегда приятные, не всегда желательные. Земля обращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. «Выдающиеся научные открытия, – говорил Роберт Оппенгеймер, – делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными, – это глубокая и неоспоримая истина». Первые атомные бомбы, изготовленные вручную на плато в штате Нью-Мексико, упали на ошарашенный доядерный мир. Позднее – когда Советский Союз взорвал копию плутониевой бомбы «Толстяк», построенную по планам, которые предоставили ему Клаус Фукс и Тед Холл, а затем стал наращивать свой собственный разносторонний арсенал, не уступающий американскому; когда водородная бомба увеличила и без того гибельную разрушительную силу ядерного оружия на несколько порядков; когда ядерное оружие появилось у Британии, Франции, Китая, Израиля и других стран – достиг зрелости новый и странный ядерный мир. Бор предположил как-то, что цель науки – вовсе не абсолютное знание. Вместо этого он представил науке более скромную, но требующую неустанных трудов цель «постепенного искоренения предрассудков». Открытие того факта, что Земля обращается вокруг Солнца, постепенно искоренило предрассудок, что Земля является центром Вселенной. Открытие микробов постепенно искоренило предрассудок, что болезни – кара божия. Открытие эволюции постепенно искоренило предрассудок, что Homo sapiens – отдельное от прочих и особое создание. Последние дни Второй мировой войны стали такого же рода переломной точкой в истории человечества, моментом вступления в новую эру, в которой человечество впервые получило в свое распоряжение средства своего собственного уничтожения. Открытие возможности высвобождения ядерной энергии и ее использования для создания оружия массового уничтожения постепенно искоренило предрассудок, на котором основана тотальная война: безосновательное убеждение, что в мире существует ограниченное количество энергии, которую можно сосредоточить во взрывчатых веществах, и что такой энергии можно накопить больше, чем ее накопит враг, и благодаря этому одержать военную победу. Ядерное оружие в конце концов стало настолько дешевым, настолько портативным и настолько гибельным, что даже такие воинственные национальные государства, как Советский Союз и Соединенные Штаты предпочли уступку части своего национального суверенитета – отказ от возможности вести тотальную войну – перспективе быть уничтоженными собственной яростью. Меньшие войны продолжаются и будут продолжаться, пока мировое сообщество не осознает их разрушительную бессмысленность настолько, чтобы создать новые средства защиты и новые формы гражданства. Но по меньшей мере стало ясно, что войны мировые – явление историческое, а не вечное, проявление разрушительных технологий ограниченного масштаба. На фоне долгой истории человеческой бойни это не такое уж незаметное достижение. В середине своей жизни я прожил несколько лет на земельном участке площадью около 1,5 га в штате Коннектикут, на поляне, окруженной со всех сторон лесистым заповедником. На ней так и кишели дикие животные: олени, белки, еноты, семейство сурков, индейки, певчие птицы, вороны, черноголовый ястреб, даже пара койотов. За исключением ястреба, все эти животные непрерывно и боязливо оглядывались, чтобы их не поймали, не разодрали на части и не съели заживо. С их точки зрения, моя райская поляна была зоной боевых действий. Животное, живущее в естественных условиях в дикой природе, очень редко доживает до старости. До недавнего времени мир человека мало чем отличался от мира этих животных. Поскольку мы – хищники, то есть находимся на вершине пищевой пирамиды, нашими злейшими природными врагами всегда были микробы. Природа – в виде эпидемических заболеваний – непрерывно собирала обильную дань человеческих жизней, и очень немногие представители рода человеческого проживали весь естественный для них срок. Напротив, смертность рукотворная – то есть смертность от войны и лишений, связанных с войной, – оставалась на протяжении всей истории человечества на низком и сравнительно постоянном уровне. Ее было трудно отличить от фонового шума естественной смертности. Появившееся в XIX веке общественное здравоохранение и произошедшее в XIX и XX веках внедрение технологий в военное дело привели к возникновению в промышленно развитом мире прямо обратной картины. Профилактические методы общественного здравоохранения снизили естественную смертность – эпидемические заболевания – до низких и контролируемых уровней. В то же время смертность рукотворная начала быстрый, болезненный рост, ужасающими вершинами которого стали две мировых войны XX века. В этом веке, самом жестоком из всех веков истории человечества, рукотворной смертью погибло не менее 200 миллионов человек. Шотландский писатель Гил Элиот дает этому числу яркое название «народа мертвых». Эпидемия рукотворной смертности резко спала после Второй мировой войны. Уровень потерь стремительно упал до значений, характерных для первых межвоенных годов. С тех пор очаги узаконенных убийств продолжают тлеть, вспыхивая в партизанских конфликтах и войнах с применением обычного оружия на периферии ядерного мира. В среднем их жертвами становятся более полутора миллионов человек в год – эта цифра, несомненно, ужасна, но до 1945 года средний уровень был на целый миллион выше, а в пике, в 1943 году, он составлял 15 миллионов. В XX веке рукотворная смерть приобрела эпидемический характер, потому что все более действенные технологии убийства довели крайние формы выражения национального суверенитета до уровня патологии. Вполне очевидно, что именно открытие возможности высвобождения ядерной энергии и ее использования в ядерном оружии снизило вирулентность этого патогена. В некотором глубоком и даже численно измеримом смысле оружие, принуждавшее в течение последних семи десятилетий к осмотрительности в глубоком страхе ядерной войны, служило контейнером, не позволявшим вырваться на свободу тем смертям, которые оно могло породить, подобно вакцине, изготовленной из ослабленной разновидности самого же патогена. Чтобы убить одного гражданина Германии во время Второй мировой войны, союзникам нужно было израсходовать три тонны бомб. Исходя из этой численной мерки, стратегические арсеналы Соединенных Штатов и Советского Союза содержали в разгар холодной войны около трех миллиардов потенциальных смертей. Это число хорошо соответствует полученной Всемирной организацией здравоохранения по другой методике в 1984 году оценке числа жертв полномасштабной ядерной войны. Концентрация смерти в ядерном оружии сделала смерть видимой. Отрезвляющие арсеналы стали символом смерти, недвусмысленным напоминанием о нашей коллективной смертности. Раньше в неразберихе боя, в воздушных или морских сражениях можно было отрицать или не замечать ужасающую стоимость стремления к абсолютному суверенитету, выраженную в человеческих жизнях. Ядерное оружие, абсолютное вместилище рукотворной смерти, впервые в истории человечества показало последствия суверенного насилия с разительной очевидностью. Поскольку надежной защиты от такого оружия не было, последствия эти не подлежали сомнению. Новая каста стратегов от вооружений судорожно пыталась изобрести способы его применения, но любая стратегия разбивалась о неоспоримые расчеты эскалации конфликта. «Любая великая и глубокая проблема несет в себе свое собственное решение», – объяснял Нильс Бор ученым Лос-Аламоса в 1943 году, когда, приехав туда, обнаружил их в смятенном состоянии духа. Ядерное оружие, заключающее в себе потенциальное человеческое насилие в самом тотальном и экстремальном виде, парадоксальным образом демонстрирует доведение до абсурда рукотворной смерти. Годы, прошедшие после 1945-го, были годами опасного, но неизбежного обучения. Как я слышал, мы чуть было не сошли с верного пути не только во время Карибского кризиса и едва не случившейся катастрофы с учениями Able Archer 1983 года, но и во многих других случаях. Мы еще столкнемся с такой опасностью, и пусть нам так же повезет в следующий раз – и в следующий после него. А может быть, катастрофа разразится в каком-нибудь другом полушарии, и миллионы, которые погибнут, падут под другим флагом. Чтобы события коснулись всех нас, будь мы даже в десятке тысяч миль от них, нужно совсем немногое. В 2008 году некоторые из ученых, участвовавших в 1983-м в моделировании исходного сценария ядерной зимы, исследовали вероятные результаты теоретической региональной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Они рассмотрели вариант такой войны с применением всего 100 ядерных боезарядов уровня Хиросимы, суммарной мощностью всего полторы мегатонны – что не превышает мощности некоторых отдельных боеголовок в арсеналах США и России. К своему потрясению они выяснили, что, поскольку это оружие неизбежно будет направлено на города, полные горючих материалов, образовавшиеся огненные смерчи выбросят в верхние слои атмосферы огромное количество черного дыма, который распространится по всему миру и вызовет охлаждение земли настолько долгое и сильное, что оно приведет ко всемирному краху сельского хозяйства. По оценке Алана Робока и Оуэна Брайана Туна, двадцать миллионов человек погибнут сразу же от ударной волны, огня и радиации, а еще миллиард – в течение следующих месяцев от массового голода. И все это в результате локальной 1,5-мегатонной ядерной войны. В 1996 году Канберрская комиссия по уничтожению ядерного оружия выявила фундаментальный принцип, названный аксиомой распространения. В самом лаконичном варианте аксиома распространения гласит, что, пока у какого-либо государства ядерное оружие, другие государства будут стремиться его приобрести. Один из членов этой комиссии, специальный представитель Австралии по ядерному разоружению Ричард Батлер, сказал мне: «Основной довод, на котором строится это утверждение, состоит в том, что справедливость, которую большинство людей понимает, в сущности, как равенство возможностей, является чрезвычайно важной концепцией для людей во всем мире. В сочетании с аксиомой распространения это ясно показывает, что многолетние попытки тех, у кого есть ядерное оружие, доказать, что их безопасность оправдывает владение этим ядерным оружием, а безопасность других его не оправдывает, потерпели полную неудачу». Развивая свою мысль на выступлении в Сиднее в 2002 году, Батлер сказал: «Я проработал над Договором о нераспространении ядерных вооружений всю свою взрослую жизнь… Проблема имеющих ядерное оружие и не имеющих его – проблема центральная, непреходящая». С 1997 по 1999 год Батлер был последним председателем ЮНСКОМ, Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака. «Один из самых трудных моментов, которые я пережил в Багдаде, – сказал он в Сиднее, – был, когда иракцы потребовали объяснить, почему их преследуют за оружие массового поражения, а расположенный совсем рядом Израиль – нет, хотя у него, как известно, есть около 200 единиц ядерного оружия. Признаюсь также, – продолжал Батлер, – что меня коробит, когда я слышу, как американцы, британцы и французы гневно осуждают оружие массового поражения, не обращая внимания на тот факт, что сами они – счастливые обладатели огромных запасов такого оружия, и беззастенчиво утверждая, что оно необходимо для их национальной безопасности и останется таковым и в будущем». «Принцип, который я вывел бы из всего этого, – заключил Батлер, – состоит в том, что явная несправедливость, двойные стандарты, какая бы сила ни поддерживала их в каждый конкретный момент, создают ситуацию, фундаментально, неустранимо неустойчивую. Это связано с тем, что человек не может смириться с такой несправедливостью. Этот принцип также верен, как фундаментальные законы физики». Позднее и в другом месте Батлер говорил об особенном нежелании американцев признавать свои двойные стандарты. «Мои попытки вовлечь американцев в обсуждение двойных стандартов, – сказал он, – были абсолютно провальными – даже с высоко образованными и заинтересованными людьми. Иногда мне казалось, что я говорю с ними по-марсиански, настолько глубока была их неспособность понять меня. Американцы совершенно не могут понять, что их оружие массового уничтожения является ничуть не меньшей проблемой, чем иракское». Или иранское, или северокорейское – или принадлежащее любой другой ядерной державе или державе, стремящейся ею стать. Разумеется, Канберрская комиссия обращалась напрямую к первым ядерным державам, пяти странам, для которых статус государств, владеющих ядерным оружием, был, по сути, узаконен Договором о нераспространении 1968 года. В 2009 году президент Барак Обама выдвинул, выступая в Праге, пугающее следствие к аксиоме распространения. «Кое-кто утверждает, что распространение этого оружия нельзя остановить, нельзя ограничить, – сказал он, – что мы обречены жить в мире, в котором все больше стран и все больше людей владеют средствами абсолютного уничтожения. Такой фатализм – смертельно опасный противник, потому что если мы верим, что распространение ядерного оружия неизбежно, то мы в некотором смысле смиряемся с мыслью, что неизбежно и применение ядерного оружия». А если нас постигнет такое бедствие, будем ли мы по-прежнему верить, что оружие обеспечивает нашу безопасность? Увидим ли мы тогда в обладании им то, чем оно является и сейчас, – преступление против человечества? Пожалеем ли мы, что не приложили достаточно усилий, чтобы объявить его вне закона во всем мире? Я изучаю ядерную историю и пишу о ней более тридцати лет. Из этого долгого предприятия я выношу в первую очередь чувство благоговения перед глубиной и могуществом природного мира, а также очарование хитросплетениями и парадоксами непрерывного взаимодействия нашего биологического вида с технологиями. Несмотря ни на что, за последние семь десятилетий – продолжительность почти всей моей жизни – мы сумели заполучить в свои неуклюжие руки новый, неограниченный источник энергии, удержать его, рассмотреть, повертеть так и сяк, взвесить и приспособить к делу, причем пока что не взорвав самих себя. Когда мы наконец доберемся до противоположного берега – когда все ядерное оружие будет демонтировано, а его активные материалы переплавлены на реакторное топливо, – мы обнаружим, что сталкиваемся приблизительно с теми же политическими опасностями, что и сейчас. Бомбы их не устранили, не устранит их и отказ от бомб. Правда, мир станет местом более открытым, но информационные технологии и так ведут его в этом направлении. Разница, как заметил Джонатан Шелл, будет состоять в том, что сдерживание будет обеспечивать угроза перевооружения, а не угроза ядерной войны. Для меня мир без ядерного оружия – не утопическая мечта, а просто мир, в котором подлетное время намеренно увеличено до нескольких месяцев или даже лет, и соответственно удлинены промежуточные периоды, в которые можно урегулировать споры, не прибегая к войне. В таком мире, если переговоры не дадут результата, если даже стычки с использованием обычного оружия не дадут результата, если обе стороны снова возьмутся за вооружение ядерным оружием, – даже в этом худшем случае мы всего лишь вернемся на край той же самой пропасти, у которой все мы стоим сейчас. Открытие способа высвобождения ядерной энергии, как и все фундаментальные научные открытия, изменило структуру дел человеческих – причем навечно. О том, как это случилось, и намерена рассказать эта книга.Ричард РоудсХаф-Мун-БэйФевраль 2012 г.
Часть I Глубокая и неоспоримая истина
Выдающиеся научные открытия делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными, – это глубокая и неоспоримая истина.Роберт Оппенгеймер
Я не перестаю удивляться тому, как несколько небрежных записей, нацарапанных на доске или листе бумаги, могут изменить весь ход человеческих дел[2].Станислав Улам
1 Лунные миражи
Однажды серым утром во времена Великой депрессии Лео Сцилард[3] нетерпеливо ждал зеленого света на углу Саутгемптон-роу и Рассел-сквер в лондонском районе Блумсбери, напротив Британского музея. Ночью прошел небольшой дождь; утро вторника 12 сентября 1933 года[4][5] было холодным, сырым и унылым. Позже, вскоре после полудня, снова начало моросить. Рассказывая об этом впоследствии, Сцилард никогда не уточнял, куда именно он направлялся этим утром. Возможно, у него не было никакой конкретной цели; он часто ходил гулять, просто чтобы подумать. Как бы то ни было, его планам суждено было измениться. На светофоре зажегся зеленый. Сцилард шагнул с тротуара. В тот момент, когда он переходил через дорогу, время раскололось перед его взором, и он увидел путь в будущее, которое смерть принесет и все невзгоды наши в этот мир[6]; ему открылся облик грядущего. Венгерский физик-теоретик еврейского происхождения Лео Сцилард родился в Будапеште 11 февраля 1898 года; в 1933-м ему исполнилось тридцать пять. Его рост был всего 168 сантиметров – немного даже для того времени. Однако тогда он еще не стал тем «невысоким толстяком», круглолицым и пузатым, «с глазами, светящимися умом и остроумием» и «раздающим свои идеи так же щедро, как вождь маори – своих жен»[7], с которым познакомился годом позже французский биолог Жан Моно. В это время Сцилард находился в процессе превращения из подтянутого юноши в грузного мужчину средних лет; у него были густые курчавые темные волосы и живое лицо с полными губами, плоскими скулами и темно-карими глазами. На фотографиях этого периода он принимает довольно томный вид. Это не случайно: главным его устремлением, даже более сильным, чем страсть к науке, было спасение мира. 1 сентября в газете Times появилась полная покровительственной благожелательности рецензия на только что вышедший новый роман Г. Дж. Уэллса «Облик грядущего». Рецензент Times довольно невнятно хвалил книгу, утверждая, что «последний “сон о будущем” мистера Уэллса служит сам себе блестящим обоснованием»[8]. Прозорливый английский романист входил в круг влиятельных знакомых Сциларда, который тот сформировал, энергично и красноречиво демонстрируя свои блестящие интеллектуальные способности[9]. В 1928 году, будучи приват-доцентом в Берлине, Сцилард, близко друживший с Эйнштейном и работавший вместе с ним над практическими изобретениями, прочитал трактат Уэллса «Легальный заговор» (The Open Conspiracy)[10]. Легальным заговором Уэллс называл совместные действия научно мыслящих промышленников и финансистов, направленные на установление всемирной республики. То есть на спасение мира. Сцилард позаимствовал у Уэллса этот термин и время от времени использовал его до конца своей жизни. Что еще важнее, в 1929 году он приехал в Лондон[11], чтобы встретиться с Уэллсом и попытаться получить у него права на издание его книг в Центральной Европе[12]. Учитывая грандиозные устремления Сциларда, можно с уверенностью предположить, что он обсуждал с Уэллсом не только авторские права. Однако эта встреча не привела к возникновению между ними какой-либо связи. В то время Сцилард еще не был знаком с самым интересным из подобных пестрой толпе диккенсовских сироток произведений Уэллса. Прошлое Сциларда хорошо подготовило его к тому откровению, которое он пережил на Саутгемптон-роу. У него, сына гражданского инженера, была любящая мать и вполне обеспеченное детство. «Я знал иностранные языки, потому что у нас дома были гувернантки: первая – чтобы учить немецкому, а вторая – французскому». Для своих одноклассников по знаменитой гимназии «Минта» при Будапештском университете он был «чем-то вроде талисмана»[13]. «В молодости, – рассказывал он на одном из своих выступлений, – у меня были две главные страсти. Одна из них – физика, а вторая – политика»[14]. Он вспоминал, как в начале Первой мировой войны, когда ему было шестнадцать, поразил своих одноклассников рассказом о том, как именно сложатся судьбы народов, основанным на прозорливой не по возрасту оценке сравнительной политической силы воюющих сторон:Я сказал им тогда, что, конечно, не знаю, кто победит в этой войне, но знаю, чем она должна закончиться. Она должна закончиться поражением Центральных держав – то есть Австро-Венгрии и Германии, – а также поражением России. Я сказал, что не вполне представляю себе, как это может произойти, поскольку эти страны воюют друг против друга, но именно так и должно случиться. Задним числом мне трудно понять, как я мог сделать такое заявление, в возрасте всего шестнадцати лет, не имея никаких собственных знаний о каких бы то ни было странах, кроме Венгрии[15].Основные черты его характера, по-видимому, сложились к шестнадцати годам. Он считал, что именно в этом возрасте он обладал наибольшей ясностью суждений, и в дальнейшем она не увеличивалась; «возможно, она даже спадала»[16]. Шестнадцатый год его жизни был первым годом войны, разрушившей политические и юридические установления целой эпохи. Уже одного такого совпадения – или такого катализатора – могло хватить, чтобы внушить юноше мессианские идеи. Вплоть до самого конца своей жизни он смущал людей недалеких и раздражал самодовольных. В 1916 году, окончив «Минту» и получив премию Этвёша[17] – венгерскую национальную премию по математике, – он задумался о продолжении образования. Его интересовала физика, но «сделать карьеру в физике в Венгрии было невозможно»[18]. Если бы он стал учиться физике, то в лучшем случае мог бы стать университетским преподавателем. Он подумал было об изучении химии, которое могло пригодиться ему в дальнейшем, когда он перешел бы к занятиям физикой, но в этой области тоже трудно было заработать себе на жизнь. В конце концов он остановился на электротехнике. Возможно, тут сыграли свою роль не только экономические соображения. Один из его друзей, учившийся вместе с ним в Берлине, уже в 1922 году заметил, что Сцилард, несмотря на свою премию Этвёша, «считал, что не может тягаться со своими коллегами по части математического мастерства»[19]. С другой стороны, из венгров, добившихся впоследствии выдающихся результатов в физике, не он один предпочел не связываться с отсталым уровнем преподавания точных наук, характерным для венгерских университетов того времени. Он начал учиться на инженера в Королевском техническом университете имени Иосифа в Будапеште, а затем был призван в австро-венгерскую армию. Поскольку у него было гимназическое образование, его сразу же отправили на кавалерийские офицерские курсы. Его жизнь почти несомненно спас вовремя полученный отпуск[20]. Он взял его якобы для того, чтобы оказать родителям моральную поддержку в связи с серьезной операцией, которую должен был перенести его брат. На самом деле Сцилард был болен. Он думал, что заболел воспалением легких, и хотел лечиться не в военном госпитале на границе, а в Будапеште, рядом с родителями. Своего командира, который должен был принять у него прошение об отпуске, он ждал, стоя по стойке «смирно» с температурой около 39°. Капитан не хотел его отпускать, но Сцилард проявил свойственную ему настойчивость и все-таки получил свой отпуск. Четверо друзей проводили его до поезда, в Вену он приехал с упавшей температурой, но сильным кашлем; наконец он добрался до Будапешта и попал в приличную больницу. У него нашли испанский грипп – это был один из первых случаев «испанки» в Австро-Венгрии. Война подходила к концу. Спустя несколько недель, задействовав «семейные связи»[21], он смог добиться комиссования. «Вскоре после этого я услышал, что мой собственный полк», который был отправлен на фронт, «подвергся яростной атаке, и все мои товарищи погибли»[22]. Летом 1919 года, когда венгерский ставленник Ленина Бела Кун и возглавляемые им коммунисты и социал-демократы установили в хаосе, наступившем после поражения Австро-Венгрии, недолговечную Венгерскую советскую республику, Сцилард решил, что ему пора продолжить образование за границей. Ему был двадцать один год. Не успел он оформить паспорт, как в начале августа того же года режим Белы Куна рухнул. Сциларду удалось получить новый паспорт у пришедшего к власти правого режима адмирала Миклоша Хорти, и где-то около Рождества он покинул Венгрию[23]. Все еще собираясь, хотя и неохотно, учиться на инженера, Сцилард записался в Берлинскую высшую техническую школу. Но то, что в Венгрии представлялось необходимостью, в Германии оказалось всего лишь одной из вполне реальных возможностей. На физическом факультете Берлинского университета работали первоклассные теоретики, нобелевские лауреаты Альберт Эйнштейн, Макс Планк и Макс фон Лауэ. В Далеме, фешенебельном пригороде Берлина, находились Институты кайзера Вильгельма, финансировавшиеся государством и промышленными компаниями. Там работал Фриц Габер, изобретатель метода выделения азота из воздуха для получения нитратов, используемых в производстве пороха, который спас Германию от поражения еще в начале Первой мировой войны, и многие другие выдающиеся химики и физики. Возможности для научной деятельности в Берлине настолько отличались от положения в Будапеште, что у Сциларда не оставалось физической возможности посещать лекции по инженерному делу. «В итоге, как обычно и бывает, подсознательное оказалось сильнее сознательного и не позволило мне продолжать обучение на инженера. Самолюбие в конце концов пошло на уступки, и примерно в середине двадцать первого года я ушел из Высшей технической школы и продолжил свое образование в университете»[24]. В то время студенты-физики странствовали по всей Европе в поисках выдающихся наставников – почти так же, как их предшественники, молодые ученые и ремесленники, делали еще со времен Средневековья. Университеты Германии были государственными учреждениями; профессор был чиновником с постоянным жалованьем и получал в дополнение к нему гонорары, которые платили прямо ему студенты, слушавшие тот курс, который он решил читать. Приват-доцентом, напротив, называли не состоящего в штате ученого, имеющего право на преподавание: он не получал никакого жалованья, но мог брать гонорары. Если курс, который вас интересовал, читали в Мюнхене, вы ехали учиться в Мюнхен, если в Гёттингене – то в Гёттинген. Во всяком случае, организация естественных наук развилась из традиций ремесленных гильдий; в течение первой трети XX века в ней еще сохранялась – и до некоторой степени сохраняется до сих пор – неформальная система взаимодействий между наставником и учеником, на которую наложилась более новая система аспирантуры европейского типа. Такая неформальная общинность отчасти объясняет распространенное среди ученых поколения Сциларда чувство принадлежности к привилегированной группе, почти что некой обособленной гильдии, международных масштабов, преследующей глобальные цели. Близкий друг Сциларда – и тоже венгр – физик-теоретик Юджин Вигнер, учившийся на момент обращения Сциларда в Высшей технической школе на инженера-химика, был свидетелем того, как Сцилард взял штурмом Берлинский университет. «Как только Сциларду стало ясно, что на самом деле его интересует физика, он с характерной для него прямотой познакомился с Альбертом Эйнштейном»[25]. Эйнштейн жил замкнуто – он мало преподавал, так как предпочитал повторению новизну, – но, как вспоминает Вигнер[26], Сцилард убедил его организовать семинар по статистической механике. Макс Планк, пожилой государственный муж, худощавый и лысеющий, проводил в свое время исследования излучения, испускаемого равномерно нагретой поверхностью (например, внутренностью доменной печи), которые привели его к открытию одной из универсальных постоянных природы. Следуя удобной традиции ведущих ученых, он брался учить лишь самых многообещающих студентов; Сциларду удалось привлечь к себе его внимание[27]. Красавец Макс фон Лауэ, директор университетского Института теоретической физики, основатель рентгеновской кристаллографии, который произвел громкую сенсацию, когда впервые сделал атомные решетки кристаллов видимыми при помощи ее методов, принял Сциларда на свой блистательный курс по теории относительности[28], а впоследствии стал и научным руководителем его диссертации. Вся послевоенная Германия была больна отчаянием, цинизмом и яростью, но в Берлине это заболевание доходило до степени горячечных галлюцинаций. Из университета, расположенного в центре города между Доротеенштрассе и Унтер-ден-Линден, к востоку от Бранденбургских ворот, было удобно наблюдать за его причудливыми проявлениями. Сцилард не присутствовал при ноябрьской революции 1918 года, начавшейся с бунта моряков в Киле, быстро распространившейся на Берлин и приведшей к бегству кайзера в Голландию, заключению перемирия и в конце концов – после кровавых волнений – образованию шаткой Веймарской республики. К моменту его прибытия в Берлин в конце 1919 года военное положение, длившееся более восьми месяцев, было отменено, и город, оставшийся сперва в голоде и мраке, быстро вернулся к опьяняюще энергичной жизни. «На земле лежал снег, – вспоминает о своем первом взгляде на послевоенный Берлин один англичанин, – и эта смесь снега, неонового света и огромных, тяжеловесных зданий производила впечатление неземное. Ясно было, что я попал в какое-то очень странное место»[29]. Один немец, работавший в берлинском театре в 1920-х годах, отмечал: «Воздух все время был резким, будто приперченным, как в Нью-Йорке поздней осенью: сна требовалось мало, и мне казалось, что я никогда не устаю. Нигде больше неудачи не переносились так легко, нигде больше нельзя было получить столько ударов подряд и все же не выходить из игры»[30]. Германская аристократия сошла со сцены, и ее место заняли интеллектуалы, кинозвезды и журналисты; главным светским мероприятием города с его опустевшим императорским дворцом стал ежегодный Бал прессы, который устраивал Берлинский пресс-клуб: на него собиралось целых шесть тысяч гостей[31]. Именно в послевоенном Берлине Людвиг Мис ван дер Роэ спроектировал свой первый стеклянный небоскреб[32]. Дебют музыкального вундеркинда Иегуди Менухина прошел под овации слушателей, в числе которых был и Эйнштейн[33]. Георг Гросс выбрал некоторые из плодов своих многочисленных беспорядочных наблюдений за жизнью широких берлинских бульваров и опубликовал их в книге «Се человек» (Ecce Homo)[34]. Там же был и Владимир Набоков, наблюдавший, как «пожилая, румяная нищая с отрезанными до таза ногами, приставленная, как бюст, к низу стены, торговала парадоксальными шнурками»[35][36]. Был там и Федор Винберг, один из эмигрировавших офицеров царской армии, выпускавший низкопробную газету, которая пропагандировала «Протоколы сионских мудрецов»[37], лично им же и привезенные в Германию из России, – свежее немецкое издание этой псевдомакиавеллиевской и откровенно лживой фантазии о завоевании мира разошлось тиражом более 100 000 экземпляров – и публично призывавший к жестокому истреблению евреев[38]. Гитлер появился там лишь под самый конец, потому что после выхода из тюрьмы в 1924 году ему был запрещен въезд в северную часть Германии. Однако он послал вместо себя злобного карлика Йозефа Геббельса, и Геббельс учился проламывать противникам головы и привлекать сторонников беззастенчивой пропагандой в этом открытом, сладострастном, пьяном от джаза городе, который он неприязненно называл в своем дневнике «мрачной и таинственной загадкой»[39]. Летом 1922 года обменный курс достиг 400 немецких марок за доллар. В начале января 1923-го, поистине ужасного года он упал до 7000 марок за доллар. В июле – до 160 000. В августе – до миллиона. К 23 ноября 1923 года, когда наконец началась коррекция курса, он достиг 4,2 триллиона марок за доллар. Банки приглашали на работу бухгалтеров, хорошо умеющих считать нули, и выдавали наличные на вес. Антикварные магазины были до потолка забиты заложенными сокровищами разорившегося среднего класса. Билет в театр отдавали за куриное яйцо. Только те, у кого была твердая валюта, – в основном иностранцы – процветали в то время, когда за сущие гроши можно было проехать по всей Германии в железнодорожном вагоне первого класса; однако этим они заслужили враждебное отношение голодающих немцев. «Нет, никакой вины мы не чувствовали, – хвастается заезжий англичанин, – все это казалось совершенно нормальным, этаким подарком судьбы»[40]. Немецкий физик Вальтер Эльзассер, эмигрировавший впоследствии в Соединенные Штаты, работал в Берлине в 1923 году, в перерыве своей университетской учебы. Отец согласился оплачивать его личные расходы. Он не был иностранцем, но благодаря финансовой помощи из-за границы мог жить как иностранец:
Чтобы я не зависел от [инфляции], отец попросил своего друга Кауфмана, банкира из Базеля, открыть мне в одном крупном банке счет в американских долларах… Раз в неделю я брал отгул на полдня и ехал на метро за своим пособием, которое я забирал в марках; разумеется, с каждым разом оно становилось все больше. Вернувшись в свою съемную комнату, я сразу закупал основной еды на неделю вперед, потому что уже через три дня все цены заметно поднимались, скажем процентов на пятнадцать, и моего пособия не хватило бы на такие развлечения, как воскресные поездки в Потсдам или на озера… Я был слишком молод, слишком эгоистичен и слишком неопытен, чтобы понимать, что́ на самом деле должна означать такая стремительная инфляция для людей, живших на пенсии или другие фиксированные доходы, и даже для наемных работников, особенно с детьми, зарплата которых не поспевала за инфляцией, – а для них она означала реальный голод и нищету[41].Так, должно быть, жил и Сцилард, хотя никто не помнит, чтобы его когда-либо видели за приготовлением еды; он предпочитал питаться в кулинарных магазинах и кафе. Он должен был понимать, что такое инфляция, и сознавать некоторые из причин столь необузданных ее темпов. Но, хотя Сцилард был человеком сверхъестественно наблюдательным – «За всю мою долгую жизнь среди ученых, – пишет Вигнер, – я не встречал человека более оригинального и творческого, обладавшего большей независимостью мыслей и суждений»[42], – ни в его воспоминаниях, ни в его статьях от этих берлинских дней не осталось почти ничего. Сцилард уделяет главному городу Германии, находившемуся тогда на пике послевоенных социальных, политических и интеллектуальных потрясений, ровно одно предложение: «Берлин переживал в то время расцвет физики»[43]. Это говорит о том, какое значение имела для него физика, именно в 1920-х годах породившая необычайную, всеобщую современную науку. Перед началом работы над диссертацией немецкий студент должен был учиться четыре года. Затем, с одобрения своего научного руководителя, студент решал какую-либо задачу, по своему выбору или предложенную профессором. «Чтобы работу приняли к рассмотрению, – говорит Сцилард, – в ней должны были содержаться действительно оригинальные исследования»[44]. Если диссертацию принимали благосклонно, студент должен был выдержать устный экзамен и, если это ему удавалось, получал докторскую степень. Сцилард уже потратил год своей жизни на военную службу и еще два – на инженерное дело. В изучении физики он времени не терял. Летом 1921 года он пришел к Максу фон Лауэ и попросил дать ему тему для диссертации. Фон Лауэ, по-видимому, решил дать Сциларду работу посложнее – то ли искренне считая, что она будет ему по плечу, то ли чтобы поставить его на место, – и предложил ему довольно неясную задачу из теории относительности. «Я ничего не мог с ней сделать. Собственно говоря, я даже не был уверен, можно ли вообще решить эту задачу». Сцилард работал над ней шесть месяцев, до самых рождественских каникул, «и тут я решил, что Рождество – время не для работы, а для безделья, так что я буду думать обо всем, что придет мне в голову»[45]. В результате за следующие три недели он придумал, как разрешить одно загадочное несоответствие в термодинамике, области физики, которая изучает взаимосвязи между теплотой и другими формами энергии. Существуют две термодинамические теории, и обе они чрезвычайно успешно предсказывают тепловые явления. Одна из них, феноменологическая, является более абстрактной и общей (и потому более полезной на практике); вторая, статистическая, основана на атомной модели и более точно соответствует физической реальности. В частности, статистическая теория описывает тепловое равновесие как состояние случайного движения атомов. Так, Эйнштейн показал в своих фундаментальных статьях 1905 года, что броуновское движение – непрерывное случайное движение частиц, например частиц пыльцы, находящихся в объеме жидкости, – представляет собой именно такое состояние[46][47]. Но более полезная феноменологическая теория рассматривает тепловое равновесие как статическое состояние, в котором не происходит никаких изменений. В этом и заключалось противоречие между ними. Сцилард подолгу гулял – по холодному и серому Берлину; впрочем, иногда серость сменялась ослепительно-солнечными днями – «и придумывал что-нибудь посреди прогулки; вернувшись домой, я записывал то, что придумал. На следующее утро я просыпался с новой мыслью и снова шел гулять. На прогулке эта мысль оформлялась в моей голове, и вечером я ее записывал». Он считал, что этот период был самым продуктивным в его жизни. «В течение трех недель я закончил рукопись действительно совершенно оригинальной работы. Но я не смел показать ее фон Лауэ, потому что это было совсем не то, что он мне задал»[48]. Вместо этого он подошел к Эйнштейну после семинара и сказал, что хотел бы показать ему одну вещь, над которой работал. – И над чем же вы там работали? – спросил, как вспоминает Сцилард, Эйнштейн. Сцилард рассказал ему о своей «совершенно оригинальной» идее. – Это невозможно, – сказал Эйнштейн. – Этого сделать нельзя. – Ну да, но я это сделал. – Как же вы это сделали? Сцилард пустился в объяснения. По его словам, «минут пять или десять спустя» Эйнштейн все понял. Проучившись физике в университете всего год, Сцилард разработал строгое математическое доказательство возможности включения случайного движения теплового равновесия в рамки феноменологической теории в ее исходном, классическом виде, без использования ограничивающей атомной модели – «и [Эйнштейну] это очень понравилось»[49]. Ободренный этим, Сцилард отнес свою работу – озаглавленную «О проявлениях термодинамических флуктуаций» (Über die thermodynamischen Schwankungserscheinungen) – фон Лауэ, который принял ее с некоторой иронией и взял домой. «А на следующий день – с самого утра – зазвонил телефон. Это был фон Лауэ. Он сказал: “Ваша рукопись принята в качестве диссертации на степень доктора философии”»[50]. Шесть месяцев спустя[51] Сцилард написал еще одну статью по термодинамике. Она называлась «Об уменьшении энтропии в термодинамической системе путем вмешательства разумных существ» (Über die Entropieverminderung in einem thermodynamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen) и впоследствии была признана одной из важных основополагающих работ современной теории информации. К тому времени он уже получил свою ученую степень – теперь его следовало называть «доктор Лео Сцилард». До 1925 года он работал в Химическом институте кайзера Вильгельма в Далеме в той же области, которой занимался фон Лауэ, – экспериментировал с воздействием рентгеновского излучения на кристаллы. Затем Берлинский университет принял его работу по энтропии в качестве Habilitationsschrift[52], диссертации, дающей право вести самостоятельную преподавательскую работу, после чего он получил там должность приват-доцента, на которой и оставался вплоть до отъезда в Англию в 1933 году. Одним из побочных занятий Сциларда и тогда, и позже было изобретательство. Между 1924 и 1934 годами он подал в патентное ведомство Германии двадцать девять патентных заявок, в одиночку или в соавторстве с Альбертом Эйнштейном[53]. Их совместные патенты в основном касались бытовой холодильной техники. «Однажды утром внимание Эйнштейна и Сциларда… привлекла одна трагическая история, о которой написали в прессе, – пишет один из американских протеже Сциларда более позднего времени. – В берлинской газете сообщалось, что целое семейство, в том числе несколько маленьких детей, было найдено задохнувшимся в своей квартире в результате вдыхания ядовитых испарений [химического вещества], которое использовалось в их примитивном холодильнике в качестве хладагента и протекло ночью через клапан неисправного насоса»[54]. После этого два физика разработали способ магнитной перекачки металлизированного хладагента, в котором не использовалось никаких движущихся частей (и, следовательно, никаких клапанов и прокладок, в которых могла возникнуть течь), кроме самого хладагента[55]. Компания AEG, крупнейший в Германии производитель электротехники, наняла Сциларда на должность платного консультанта и действительно построила один из холодильников Эйнштейна – Сциларда, но магнитный насос оказался даже более шумным, чем традиционные компрессоры, и так и не вышел за пределы инженерной лаборатории. Было запатентовано и другое, странным образом сходное, изобретение, которое могло бы принести Сциларду всемирную славу, если бы он не ограничился его патентованием. Независимо от американского физика Эдварда О. Лоуренса и по меньшей мере на три месяца раньше его Сцилард разработал основополагающий принцип и общую конструкцию устройства, которое стало известно – как изобретение Лоуренса – под названием циклотрона, ускорителя заряженных частиц в магнитном поле, то есть своего рода ядерного насоса. Сцилард подал патентную заявку на этот прибор 5 января 1929 года[56]; Лоуренс впервые подумал о конструкции циклотрона около 1 апреля 1929 года[57], а годом позже изготовил его миниатюрную рабочую модель – за что и получил в 1939 году Нобелевскую премию по физике. Оригинальность Сциларда не знала границ. Где-то на пути из 16-летних пророков, провидящих судьбы народов, в 31-летние легальные заговорщики, договаривающиеся с Г. Дж. Уэллсом о правах на издание его книг, он задумал свой собственный «легальный заговор». Сам он утверждал, что это изобретение в области общественных наук появилось у него «в Германии в середине двадцатых»[58]. Если это так, то в 1929 году он искал встречи с Уэллсом не только ради прозорливости английского писателя, но и под влиянием своего собственного видения. Английский физик и романист Ч. П. Сноу пишет, что у Сциларда был «редкий склад характера, возможно, чуть менее редкий среди крупных ученых. Он обладал мощным эго и неуязвимым эгоцентризмом, но всю энергию своей личности он излучал вовне, в форме доброжелательных намерений по отношению к другим людям. В этом отношении он был сродни Эйнштейну, хотя и в меньших масштабах»[59]. В данном случае благожелательные намерения вылились в проект создания новой организации под названием «Бунд» (Der Bund)[60], что означает орден, конфедерация или попросту союз. Этот «Бунд», как писал Сцилард, должен был стать «тесно сплоченной группой людей, внутренние связи между которыми пропитаны религиозным и научным духом»[61]:
Если бы у нас было волшебное заклинание, позволяющее распознать «лучших» представителей нового поколения еще в раннем возрасте… то мы смогли бы научить их независимому мышлению и создать при помощи интенсивного образования класс тесно связанных между собой духовных лидеров, который затем обновлялся бы сам по себе[62].Члены этого класса не получали бы ни богатств, ни личной славы. Напротив, им вменялось бы в обязанность брать на себя огромную ответственность, «бремя», чтобы «продемонстрировать свою приверженность делу». Сциларду казалось, что такая группа имела бы хорошие шансы влиять на общественные процессы, даже если у нее не было бы ни формальной структуры, ни юридического статуса. Однако существовала и возможность того, что она могла бы «оказывать более прямое влияние на жизнь общества в качестве части политической системы, вместе с правительством и парламентом или вместо правительства и парламента»[63]. «“Бунд”, – писал Сцилард в другом месте, – не должен был быть чем-то вроде политической партии… а скорее должен был представлять государство»[64]. Он предполагал, что представительская демократия каким-то образом зародится в ячейках по тридцать-сорок человек, которые образуют зрелую политическую структуру “Бунда”». «Благодаря методу отбора [и образования]… с большой вероятностью должна сложиться ситуация, в которой решения, принимаемые на высшем уровне, будут выражением воли адекватного большинства». Сцилард не оставлял идеи своего «Бунда» в том или ином виде на протяжении всей своей жизни. Уже в 1961 году она, должным образом замаскированная, вновь возникает в его фантастическом рассказе «Голос дельфина»[65]: дельфины, живущие в бассейне «Венского института», начинают делиться с миром своими неоспоримо мудрыми мыслями при посредстве своих хранителей и переводчиков, американских и советских ученых. Рассказчик неявно дает понять, что эти мудрые мысли, возможно, и исходят от хранителей и переводчиков, которые играют на стремлении человечества получить спасение от сверхчеловеческих спасителей. В бурном порыве оптимизма – или оппортунизма – Сцилард собрал в 1930 году группу своих знакомых, по большей части молодых физиков, чтобы начать работу по созданию такого союза[66]. В середине 1920-х он был убежден, что «парламентской форме демократии не суждена в Германии очень долгая жизнь», но считал, что «она все же может просуществовать на протяжении одного-двух поколений»[67]. Пять лет спустя его мнение изменилось. «Я пришел к выводу, что в Германии произойдет нечто неправильное… в 1930 году». В этом году президент германского Рейхсбанка Яльмар Шахт, встречавшийся в Париже с комиссией экономистов, которая должна была решить, в каком размере Германия может выплатить военные репарации, заявил, что Германия не сможет выплатить ничего, если ей не вернут прежние колонии, отторгнутые у нее после войны. «Это заявление было настолько поразительным, что привлекло мое внимание, и я решил, что, если Яльмар Шахт считает, что такое может сойти ему с рук, дело, видимо, действительно плохо. Это произвело на меня такое впечатление, что я написал письмо в свой банк и перевел все свои деньги до последнего гроша из Германии в Швейцарию»[68]. В это время к власти в Германии стремился другой, гораздо более организованный союз, со своей, более примитивной, программой спасения мира. Этой программе, бесцеремонно изложенной в автобиографической книге Гитлера «Майн кампф»[69], суждено было осуществиться в виде долгих и кровавых испытаний. Однако Сцилард и в последующие годы возглавлял усилия, направленные на создание своего рода «Бунда». Этот союз был скрыт от глаз общественности и работал над задачами более срочными и более приземленными, чем достижение утопии, но в конечном счете эта «тесно сплоченная группа людей» оказала на события в мире даже большее влияние, чем национал-социализм. Где-то в 1920-х годах Сцилард обратил внимание на новую область исследований – ядерную физику, то есть изучение ядра атома, в котором сосредоточена бо́льшая часть его массы (и, следовательно, его энергии). Он был знаком с многочисленными выдающимися работами в области общей радиоактивности, которые выполнили немецкий химик Отто Ган и австрийский физик Лиза Мейтнер, плодотворно сотрудничавшие в Химическом институте кайзера Вильгельма. Несомненно, он, как обычно, ощущал и характерную напряженность, витавшую в воздухе на пороге важных открытий. Ядра некоторых легких атомов можно разбить на части, обстреливая их частицами атомного происхождения; это обстоятельство уже продемонстрировал к тому времени великий английский физик-экспериментатор Эрнест Резерфорд. Резерфорд бомбардировал одни ядра другими, но, поскольку и те и другие ядра обладали положительным зарядом, ядра мишени отражали бо́льшую часть таких снарядов. Поэтому физики искали возможности разгона частиц до более высоких скоростей, что позволило бы им преодолеть электрический барьер ядра. Разработанная Сцилардом конструкция ускорителя элементарных частиц, родственного циклотрону, который мог бы быть использован для этой цели, свидетельствует о том, что он думал о ядерной физике еще в 1928 году. До 1932 года он о ней только думал. У него была другая работа, а ядерная физика еще не интересовала его в достаточной степени. Но в 1932 году ее привлекательность стала неотразимой. В физике было сделано открытие, проложившее путь к новым возможностям, а литературные и утопические открытия, которые сделал сам Сцилард, навели его на мысли о новых подходах к делу спасения мира. 27 февраля 1932 года физик Джеймс Чедвик из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета – лаборатории Эрнеста Резерфорда – высказал в письме в британский журнал Nature предположение о существовании нейтрона[70]. Четыре месяца спустя он подтвердил существование нейтрона в более подробной статье, опубликованной в «Трудах Королевского общества» (Proceedings of the Royal Society)[71], но уже в момент появления первого осторожного сообщения Чедвика Сцилард, видимо, сомневался в нем не больше, чем сам Чедвик. Подобно многим другим научным открытиям, как только этот факт был продемонстрирован, он стал казаться очевидным, и Сцилард мог, если бы захотел, повторить тот же опыт в Берлине. Нейтрон – частица, имеющая почти такую же массу, как положительно заряженный протон, который был до 1932 года единственным точно известным элементом атомного ядра, – не имеет электрического заряда, что означает, что он может пройти сквозь окружающий ядро электрический барьер и попасть внутрь ядра. Тогда же, в 1932 году, Сциларду впервые встретилась – или впервые привлекла его внимание – та колоритная книга Герберта Уэллса, которой он не знал раньше, «Освобожденный мир»[72]. Несмотря на такое название, это был не трактат вроде «Легального заговора», а футуристический роман, опубликованный в 1914 году, еще до начала Первой мировой войны. Тридцать лет спустя Сцилард все еще точно помнил подробности «Освобожденного мира». По его словам, Уэллс описывает в этой книге
…масштабное высвобождение атомной энергии в промышленных целях, создание атомных бомб и мировую войну, в которой союз Англии, Франции и, возможно, Америки противостоит державам центральной части Европы – Германии и Австрии. У него эта война происходит в 1956 году и сопровождается разрушением крупнейших городов мира атомными бомбами[73].В этом пророческом романе Уэллса Сцилард нашел новые откровения для себя лично – идеи, предвосхищавшие или повторявшие его собственные утопические планы, ответы, которыми он мог руководствоваться в будущем. Например, Уэллс пишет, что его герой-ученый «испытывал растерянность и даже страх, потому что очень ясно представлял себе колоссальные последствия своего открытия. В этот вечер он задумался о том, что, быть может, ему не следует сообщать о своем открытии, что оно преждевременно, что его следовало бы отдать какому-нибудь тайному обществу ученых, чтобы они хранили его из поколения в поколение, пока мир не созреет для его практического применения»[74]. Тем не менее «Освобожденный мир» повлиял на Сциларда меньше, чем можно было бы предположить, учитывая тему этого романа. «Эта книга произвела на меня огромное впечатление, но я считал ее чистой воды выдумкой. Она не заставила меня задуматься о том, могут ли подобные вещи произойти на самом деле. До этого времени я не занимался ядерной физикой»[75]. По словам самого Сциларда, смена направления его работы была вызвана другим, не столь громким разговором. В 1932 году его друг, познакомивший Сциларда с Гербертом Уэллсом, вернулся из Англии в континентальную Европу:
Я снова встретился с ним в Берлине, и между нами произошла примечательная беседа. Отто Мандль заявил, что, кажется, знает, что́ нужно, чтобы спасти человечество от череды бесконечно повторяющихся войн, грозящих ему уничтожением. Он сказал, что в человеке от природы заложена склонность к героизму. Человека не устраивает счастливая, идиллическая жизнь – ему необходимо бороться и сталкиваться с опасностями. Из этого он сделал вывод, что для спасения человечества ему необходимо взяться за предприятие, целью которого будет возможность покинуть Землю. Он полагал, что эта задача позволит сконцентрировать энергию человечества и удовлетворит его потребность в героизме. Я очень хорошо помню свою собственную реакцию. Я сказал ему, что эта идея для меня довольно нова, и я не вполне уверен, могу ли я с ним согласиться. Я мог утверждать только одно: что если бы я решил, что человечеству действительно нужно именно это, если бы я захотел внести свой вклад в спасение человечества, то я бы, вероятно, обратился к ядерной физике, потому что только освобождение энергии атома сможет дать нам средства, которые позволят человеку не только покинуть Землю, но и выйти за пределы Солнечной системы[76].Видимо, именно к такому заключению Сцилард и пришел; в том же году он переехал в Гарнак-хаус – жилой корпус для приезжих ученых, работавших в Институтах кайзера Вильгельма при финансовой поддержке германской промышленности, своего рода клуб исследователей и преподавателей, – и начал обсуждать с Лизой Мейтнер возможности совместной с нею экспериментальной работы в области ядерной физики[77]. Ради спасения человечества. Он всегда жил «на чемоданах», на съемных квартирах. В период жизни в Гарнак-хаусе он всюду носил с собой ключи от двух своих чемоданов, уже собранных. «Если бы ситуация изменилась к худшему, мне нужно было только повернуть ключ – и я был готов к отъезду»[78]. Ситуация действительно изменилась к худшему – настолько, что решение о начале совместной работы с Мейтнер пришлось отложить[79]. Как вспоминает Сцилард, его старший венгерский друг, химик Майкл Полани, тоже работавший в Институтах кайзера Вильгельма и обремененный семьей, подобно многим другим, жившим в то время в Германии, придерживался оптимистических взглядов на германские политические события. «Все они считали, что цивилизованные немцы не допустят, чтобы произошло что-нибудь действительно ужасное»[80]. Сцилард, видевший, насколько сами немцы охвачены пассивностью и цинизмом – которые были одним из самых отвратительных последствий поражения в крупной войне, – не разделял столь жизнерадостных взглядов. 30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. Ночью 27 февраля группа нацистов, направляемая главой берлинского подразделения СА, личной армии Гитлера, подожгла величественное здание Рейхстага. Здание было полностью разрушено. Гитлер обвинил в поджоге коммунистов и заставил ошеломленный рейхстаг предоставить ему чрезвычайные полномочия. Сцилард обнаружил, что Полани и после пожара не изменил своего мнения. «Он посмотрел на меня и сказал: “Неужели ты действительно хочешь сказать, что к этому делу причастен [министр внутренних дел Герман Геринг]?” – и я ответил: “Да, именно это я и хочу сказать”. Он просто смотрел на меня, не веря своим глазам»[81]. В конце марта адвокатам и судьям еврейского происхождения запретили работать в Пруссии и Баварии. В выходные, начавшиеся 1 апреля, Юлиус Штрейхер провел по всей стране бойкот еврейских фирм и магазинов; евреев избивали на улицах. «В один из дней около 1 апреля 1933 года я ехал на поезде из Берлина в Вену, – пишет Сцилард. – Поезд был пуст. На следующий день тот же поезд был переполнен; его остановили на границе, всем пассажирам приказали выйти, и всех допрашивали нацисты. Это говорит только о том, что, чтобы добиться в жизни успеха, не обязательно быть намного умнее других – нужно просто успевать на день раньше»[82]. 7 апреля по всей Германии вступил в силу Закон о восстановлении профессионального чиновничества, и тысячи еврейских преподавателей и ученых потеряли свою работу в германских университетах. Сцилард, уехавший в начале мая в Англию, развернул бешеную деятельность, помогая им эмигрировать в Англию, Соединенные Штаты, Палестину, Индию, Китай и другие страны и найти там работу. Если он и не мог пока что спасти весь мир, он по меньшей мере мог спасти хотя бы какую-то его часть. В сентябре он сделал небольшую передышку. К этому времени он жил в отеле «Империал» на Рассел-сквер; из Цюриха он перевел в свой лондонский банк 1595 фунтов[83]. Более половины этой суммы, 854 фунта, он хранил для своего брата Белы[84]; на остальное он должен был прожить год. Средства Сциларда складывались из авторских отчислений по патентам, гонораров за консультации по холодильной технике и заработков приват-доцента. Он был так занят поисками работы для других, что так и не удосужился найти работу самому себе. Правда, расходов у него было немного; неделя проживания в хорошей лондонской гостинице, включая трехразовое питание, стоила около пяти с половиной фунтов; почти всю свою жизнь он прожил холостяком, и потребности его были простыми. «Я больше не думал ни о том разговоре [с Оттом Мандлем о космических полетах], ни о книге Уэллса, пока не оказался в Лондоне в дни [собрания] Британской ассоциации»[85]. Тут Сциларда подводит синтаксис: ключевое слово в этом предложении – пока. Происходившие события и благотворительная деятельность не оставляли ему возможности плодотворно размышлять о ядерной физике. Он даже подумывал о переходе в биологию – хотя подобная смена специализации была бы шагом весьма радикальным, его удалось сделать нескольким физикам, как до войны, так и позднее. Такое изменение очень значительно с психологической точки зрения, и Сцилард в конце концов совершил его в 1946 году. Но в сентябре 1933-го ему помешало в этом ежегодное собрание Британской научной ассоциации. Если в пятницу 1 сентября, отдыхая в холле лондонского отеля «Империал», Сцилард прочитал напечатанную в Times рецензию на «Облик грядущего», он должен был обратить внимание на то, что, по мнению безымянного критика, Уэллс «и раньше пытался написать что-то в этом же роде – в частности, вспоминается его довольно сумбурное произведение “Освобожденный мир”, – но никогда прежде не изображал в таких многочисленных и реалистичных подробностях, с такой убедительной силой ужасающую вероятность некоторых близких катастрофических событий»[86]. Возможно, именно тут Сцилард снова задумался об атомных бомбах из более ранней работы Уэллса, о «легальном заговоре» Уэллса и заговоре своем собственном, о нацистской Германии и ее талантливых физиках, о разрушенных городах и всеобщей войне. Сцилард несомненно читал Times от 12 сентября и видел броские заголовки этого номера:
Как сообщалось в Times, Эрнест Резерфорд изложил историю «последней четверти века в области атомных превращений», в число которых входилиБРИТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАСЩЕПЛЕНИЕ АТОМА
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Все это обеспокоило Сциларда. Рядом с ним шло собрание ведущих ученых Британии, а его там не было. Он находился в безопасности, у него имелись деньги в банке, но при этом он был всего лишь одним из множества безымянных беженцев-евреев, оказавшихся в Лондоне за бортом нормальной жизни; он праздно пил свой утренний кофе в гостиничном холле, не имея ни работы, ни известности. Затем, в середине второй колонки напечатанного в Times отчета о выступлении Резерфорда, он нашел следующее:НОВАТОРСКИЕ НЕЙТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Понимал ли Сцилард, что именно Резерфорд подразумевает под погоней за лунными миражами – «пустые или фантастические разговоры»? Не пришлось ли ему обратиться за справкой к швейцару, прежде чем он отбросил газету и выбежал на улицу? «Как сообщалось, лорд Резерфорд заявил, что любой, кто говорит о высвобождении атомной энергии в промышленных масштабах, гоняется за лунными миражами. Меня всегда раздражали заявления специалистов о том, что чего-то никак нельзя сделать»[87]. «Это в некотором роде навело меня на размышления во время моей прогулки по Лондону, и, помнится, остановившись на светофоре на углу Саутгемптон-роу[88]… я раздумывал, нельзя ли доказать, что лорд Резерфорд был не прав»[89]. «Мне пришло в голову, что нейтроны – в отличие от альфа-частиц – не ионизируют вещество, через которое они проходят [то есть не вступают с ним в электрическое взаимодействие]. Следовательно, нейтрон может не останавливаться, пока не попадет в ядро, с которым он сможет провзаимодействовать»[90]. То, что нейтрон может проникнуть за электрический барьер ядра, Сцилард понял не первым; другим физикам тоже приходила в голову эта идея. Но он первым придумал механизм, по которому при бомбардировке ядра нейтроном может быть высвобождено больше энергии, чем несет сам этот нейтрон. Похожий процесс был известен в химии – его изучал Полани[91]. Сравнительно небольшое количество активных частиц – например атомов кислорода, – введенных в химически неустойчивую систему, действует наподобие закваски, которая запускает химическую реакцию при температурах гораздо более низких, чем данная реакция требует в нормальных условиях. Этот процесс называется цепной реакцией. Один центр химической реакции производит тысячи молекул конечного продукта. Иногда один из таких центров удачно встречается с реагентом и образует не один новый центр, а два или более, каждый из которых, в свою очередь, может обеспечить дальнейшее распространение цепочки реакции. Химические цепные реакции самоограниченны[92]. Если бы такого ограничения не было, они развивались бы в геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 384, 32 768, 65 536, 131 072, 262 144, 524 288, 1 048 576, 2 097 152, 4 194 304, 8 388 608, 16 777 216, 33 554 432, 67 108 868, 134 217 736… «Когда зажегся зеленый свет и я стал переходить через дорогу, – вспоминает Сцилард, – я… неожиданно понял, что если бы мы смогли найти элемент, расщепляемый нейтронами и испускающий два нейтрона при поглощении одного, то такой элемент, если собрать достаточно большую его массу, смог бы поддерживать ядерную цепную реакцию»[93]. «В тот момент я не понимал, как именно следует искать такой элемент или какие эксперименты нужно будет провести, но эта идея меня уже не покидала. В некоторых условиях может существовать возможность запуска ядерной цепной реакции, высвобождения энергии в промышленных масштабах и создания атомных бомб»[94]. Лео Сцилард поднялся на тротуар. За его спиной снова загорелся красный свет.НАДЕЖДА НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ АТОМОВ
Каковы же, – спросил в заключение лорд Резерфорд, – перспективы на ближайшие 20 или 30 лет? Для ускорения бомбардирующих частиц, вероятно, не потребуется высоких напряжений порядка миллионов вольт. Преобразования могут быть получены при 30 или 70 тысячах вольт… Он полагает, что в конце концов мы сможем преобразовывать все химические элементы. В этих процессах мы, возможно, получим гораздо больше энергии, чем дает протон, но в среднем мы не можем рассчитывать на такой способ получения энергии. Этот метод производства энергии чрезвычайно неудобен и непроизводителен, и всякий, кто ищет в превращениях атомов источник энергии, гоняется за лунными миражами.
2 Атомы и пустота
Для атомной энергии нужен атом. До начала XX века никаких реальных атомов в физике не было. Идея же атома – как невидимого слоя вечной, основополагающей материи, скрытой под кажущимся миром, в котором все объединяется, кишит, растворяется и разлагается, – существует с глубокой древности. Эту концепцию выдвинул Левкипп, греческий философ V века до н. э., имя которого сохранилось благодаря упоминанию у Аристотеля; развил ее Демокрит, состоятельный и более известный фракиец того же времени. «Ибо лишь в общем мнении существует цвет, – цитирует одну из семидесяти двух утраченных книг Демокрита греческий врач Гален, – в мнении – сладкое, в мнении – горькое, в действительности же – атомы и пустота»[95][96]. Начиная с XVII века физики постулировали атомную модель мира всюду, где казалось, что это требуется для развития физической теории. Однако вопрос о том, существуют ли атомы на самом деле, оставался спорным. Постепенно споры на эту тему свелись к обсуждению того, какие именно атомы необходимы и возможны. Исаак Ньютон представлял себе нечто вроде миниатюрных бильярдных шаров, которые соответствовали бы его механической вселенной движущихся масс. «Мне кажется вероятным, – писал он в 1704 году, – что Бог вначале дал материи форму твердых, массивных, непроницаемых, подвижных частиц таких размеров и фигур и с такими свойствами и пропорциями в отношении к пространству, которые более всего подходили бы к той цели, для которой он создал их»[97][98]. Шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл, которому мы обязаны созданием Кавендишской лаборатории, опубликовал в 1873 году основополагающий «Трактат об электричестве и магнетизме» (Treatise on Electricity and Magnetism), который изменил чисто механическую вселенную Ньютона с частицами, соударяющимися в пустоте, введя в нее концепцию электромагнитного поля. Это поле пронизывает пустоту; электрическая и магнитная энергия распространяется в ней со скоростью света; самый свет, как показал Максвелл, есть одна из форм электромагнитного излучения. Однако, несмотря на внесенные им же изменения, Максвелл – не в меньшей степени, чем Ньютон, – оставался приверженцем жестких, механических атомов:Но если случались и вновь могут случиться катастрофы, если старые системы могут разрушаться и на их развалинах могут возникать новые системы, то [атомы], из которых эти системы построены, неразрушимы и неизменны – это краеугольные камни материальной Вселенной. Сейчас [они] так же неизменны по своему числу, по своим размерам и по весу, как и в то время, когда они были сотворены[99][100].Макс Планк придерживался другого мнения. Он, как и многие его коллеги, сомневался, что атомы вообще существуют, – корпускулярная теория материи была изобретением скорее английским, чем континентальным, и ее несколько британский аромат был отвратителен носам немецких ксенофобов, – но, если атомы все же существуют, считал он, они не могут быть механическими. «Существенно важно… то, – признавал он в своей “Научной автобиографии” (Wissenschaftliche Selbstbiographie), – что внешний мир представляет собой нечто независимое от нас, абсолютное, чему противостоим мы, а поиски законов, относящихся к этому абсолютному, представляются мне самой прекрасной задачей в жизни ученого»[101][102]. Планк считал, что термодинамические законы наиболее фундаментальным из всех законов физики образом относятся к такому независимому «внешнему миру», которого требовало его стремление к абсолютному. Еще на ранних стадиях своей работы он увидел, что чисто механические атомы нарушали бы второе начало термодинамики. Его выбор был ясен. Второе начало термодинамики гласит, что самопроизвольная передача тепла от более холодного тела более горячему невозможна без каких-либо изменений системы. Или, в обобщенной формулировке, которую сам Планк сформулировал в своей диссертации, которую он писал в Мюнхенском университете в 1879 году, «процесс передачи тепла не может быть полностью обращен какими бы то ни было средствами»[103]. Второе начало не только говорит о невозможности создания вечного двигателя, но и определяет понятие, которое предшественник Планка, профессор Рудольф Клаузиус, назвал энтропией: поскольку при выполнении любой работы происходит рассеяние энергии, выделяющейся в виде тепла, – и это тепло невозможно собрать в организованном, пригодном для использования виде, – Вселенная должна постепенно изменяться в направлении все более случайного состояния. Из этой концепции все более увеличивающегося беспорядка следует, что Вселенная развивается однонаправленным и необратимым образом; второе начало термодинамики есть физическое выражение того, что мы называем временем. Однако уравнения механики – в рамках науки, которая называется теперь классической физикой, – теоретически допускают развитие Вселенной в любом направлении, как вперед, так и назад. «Таким образом, – сетовал один видный немецкий химик, – в чисто механическом мире не может быть “до” и “после”, как в мире, где мы живем; иначе дерево могло бы превратиться в побег, а затем в семя, бабочка – в гусеницу, старик – в ребенка. Механистическая доктрина никак не объясняет тот факт, что на самом деле этого не происходит, да такое объяснение и не может быть дано ввиду некоторых фундаментальных свойств уравнений механики. Фактическая необратимость явлений природы доказывает, таким образом, наличие процессов, которые нельзя описать уравнениями механики. Тем самым выносится приговор научному материализму»[104][105]. За несколько лет до этого Планк, что было для него характерно, высказался более лаконично: «Последовательное применение второго закона [по Планку, признание роста энтропии в качестве абсолютного закона]… несовместимо с предположением о существовании атомов конечного размера»[106]. Значительная часть затруднений была связана с тем, что в то время атомы нельзя было прямо измерить в эксперименте. Они были концепцией, полезной в химии, в которой их использовали для объяснения того, почему некоторые вещества – элементы – соединяются друг с другом с образованием других веществ, но сами не могут быть разложены химическими методами. Атомы, по-видимому, объясняли, почему газы ведут себя именно так, а не иначе, – заполняют любой сосуд, в который их помещают, и оказывают равное давление на все стенки такого сосуда. Их использовали и для объяснения того поразительного открытия, что любой элемент, нагреваемый в пламени лабораторной горелки или испаряемый электрической дугой, окрашивает испускаемый свет, причем при разложении этого света призмой или дифракционной решеткой спектр неизменно разбивается на последовательность характерных ярких полос или линий. Однако еще в 1894 году, когда Роберт Сесил, третий маркиз Солсбери, канцлер Оксфордского университета и бывший[107] премьер-министр Англии, перечислял нерешенные задачи науки в своей председательской речи на заседании Британской ассоциации, вопрос о том, являются ли атомы реальными объектами или лишь удобной условностью и какова может быть их скрытая структура, по-прежнему оставался открытым:
Что есть атом каждого элемента, представляет ли он собою движение, предмет, вихрь или точку, обладающую инерцией, существуют ли пределы его делимости и, если они существуют, как налагаются такие пределы, окончателен ли длинный перечень элементов и имеют ли какие-либо из них сколько-нибудь общее происхождение, – все эти вопросы остаются так же окруженными мраком, как и прежде[108].Именно так – выбирая между возможными вариантами – и работает физика; именно так работают все точные науки. Химик Майкл Полани, друг Лео Сциларда, исследовал методы работы науки в последние годы своего пребывания в Манчестерском университете и в Оксфорде. Он установил, что традиционная организация науки сильно отличается от представлений большинства не связанных с наукой людей. Он назвал ее «республикой науки»[109], сообществом свободно сотрудничающих мужчин и женщин, «чрезвычайно упрощенным примером свободного общества»[110]. Не все специалисты по философии науки – области, которой стал заниматься Полани, – были с ним согласны. Даже сам Полани иногда называл науку «ортодоксией». Но его республиканская модель науки сильна тем же, чем бывают сильны успешные научные модели: она объясняет взаимосвязи, которые не были понятны до нее. Полани задавал прямые вопросы. Как избирают ученых? Какую присягу они принимают? Кто направляет их исследования – выбирает задачи, которые следует изучать, утверждает планы экспериментов, оценивает значение результатов? Кто решает, что́ соответствует научной «истине» при окончательном анализе этих результатов? Вооружившись этими вопросами, Полани отступил на шаг и рассмотрел науку извне. За великой конструкцией, которая всего за три столетия начала преобразовывать весь мир человечества, лежала основополагающая приверженность натуралистическому взгляду на жизнь. В другие эпохи и в других местах господствовали иные воззрения – магические или мифологические. Дети обучались натуралистическому мировоззрению, когда учились говорить, когда учились читать, когда шли в школу. «Миллионы ежегодно расходуются на культивирование и распространение науки теми же самыми органами государственной власти, – написал однажды Полани, раздраженный теми, кто упорно не хотел понимать его идей, – которые не дадут ни гроша на развитие астрологии или колдовства. Другими словами, наша цивилизация глубоко привержена определенным представлениям о природе вещей; представлениям, отличным, например, от тех, которым были привержены древнеегипетская или ацтекская цивилизации»[111]. Большинство молодежи познает лишь ортодоксальные положения науки. Они выучивают «общепринятые доктрины, мертвые письмена»[112]. Некоторые, продолжающие образование в университетах, заходят дальше и познают начала научного метода. Они используют в повседневных исследованиях экспериментальные доказательства. Они открывают для себя «неопределенность и вечную временность»[113] положений науки. Они начинают вдыхать в нее жизнь. Но это еще не значит стать ученым. Чтобы стать ученым, считал Полани, необходимо «полное посвящение»[114]. Такое посвящение дается «тесными личными связями с взглядами и практиками заслуженного наставника»[115]. Практика науки сама по себе не есть наука; это искусство, передаваемое от учителя к ученику, как передается искусство живописи или приемы и традиции юриспруденции или медицины. Познать право из одних лишь книг и лекций невозможно. Также нельзя познать и науку, потому что в науке никогда не бывает точных соответствий; никакой эксперимент не может быть окончательным доказательством; все всегда бывает упрощенным и приблизительным. Американский физик-теоретик Ричард Фейнман как-то говорил о науке с подобным же пылом перед переполненной аудиторией студентов Калифорнийского технологического института. «Что значит “понять” что-либо?» – спросил Фейнман. Его ответ на этот вопрос полон ироническим сознанием ограниченности возможностей человека:
Представьте себе, что сложный строй движущихся объектов, который и есть «мир», – это что-то вроде гигантских шахмат, в которые играют боги, а мы следим за их игрой. В чем правила игры, мы не знаем; все, что нам разрешили, – это наблюдать за игрой. Конечно, если посмотреть подольше, то кое-какие правила можно ухватить. Под основными физическими воззрениями, под фундаментальной физикой мы понимаем правила игры. Но, даже зная все правила… лишь очень и очень редко нам удается действительно объяснить что-либо на их основе. Ведь почти все встречающиеся положения настолько сложны, что нет никакой возможности, заглядывая в правила, проследить за планом игры, а тем более предугадать очередной ход. Приходится поэтому ограничиваться самыми основными правилами. Когда мы разбираемся в них, то уже считаем, что «поняли» мир[116][117].Научиться чувствовать доказательства; научиться рассуждать; научиться выбирать правильные интуитивные ощущения; научиться видеть, какие из сложнейших вычислений стоит повторить и каким из экспериментальных результатов не стоит доверять – эти умения дают билет на трибуны шахматной партии богов, и их обретение требует прежде всего обучения у настоящего мастера. Полани обнаружил еще один необходимый элемент полноценного посвящения в науку – веру. Хотя точные науки стали ортодоксальной идеологией западной цивилизации, каждый волен соглашаться или не соглашаться с ними, частично или целиком: число верующих в астрологию, марксизм или непорочное зачатие по-прежнему остается огромным. Однако «никто не может быть ученым, не предполагая, что научная доктрина и научный метод фундаментально верны и что их основополагающие предпосылки могут быть приняты безоговорочно»[118]. Стать ученым можно, лишь искренне и глубоко приняв научную систему и научное мировоззрение. «Любое описание науки, прямо не называющее ее предметом веры, по сути дела, неполно и обманчиво. Оно эквивалентно утверждению о том, что наука, по сути дела, отличается от всех человеческих верований, не сводящихся к научным утверждениям, и в чем-то превосходит их, – что неверно»[119]. Вера есть та присяга, которую приносят ученые. Так происходит отбор ученых и их принятие в этот орден. Они составляют республику образованных верующих, обучающихся в системе связей между наставниками и учениками осторожно оценивать скользкие места своей работы. Кто же направляет эту работу? Этот вопрос на самом деле разбивается на два: кто решает, какие задачи следует изучать, какие эксперименты следует ставить? И кто оценивает значение и достоверность результатов? Полани предложил одну аналогию[120]. Представим себе, сказал он, группу работников, которым поручили собрать очень большую, очень сложную мозаичную картинку – пазл. Как они могут организовать свою работу, чтобы выполнить ее максимально эффективно? Каждый из работников может взять какие-то элементы пазла и попытаться совместить их. Этот метод был бы эффективным, если бы собирание пазла было сродни шелушению гороха. Но это не так. Элементы пазла не изолированы. Они были частью единого целого. И вероятность того, что один из работников случайно наберет себе элементы, подходящие друг к другу, мала. Даже если такая группа изготовит достаточно экземпляров всех элементов, чтобы в распоряжении каждого работника был весь пазл, ни один из них в одиночку не сделает столько, сколько могла бы сделать группа, если бы нашла метод совместной работы. Наиболее эффективное решение, по словам Полани, заключается в том, чтобы позволить каждому из работников следить за тем, что делают все остальные. «Пусть они работают над пазлом вместе, видя друг друга, чтобы каждый раз, когда один из [работников] ставит какую-либо часть мозаики на место, все остальные сразу начинали искать следующий шаг, который становится возможным благодаря этому»[121]. В таком случае, даже если каждый из работников действует по собственной инициативе, его действия способствуют прогрессу всей группы. Члены группы работают вместе независимым образом; пазл собирается самым действенным способом. Полани считал, что наука познает неизвестное, проходя через последовательность этапов, которые он называл «точками роста»[122], причем каждая из таких точек представляет собой место, в котором делаются наиболее продуктивные открытия. Узнавая о новых достижениях из сети научных изданий и личных связей с коллегами, – благодаря полной открытости обмена информацией, абсолютной и жизненно важной свободе слова – ученые немедленно начинают работать именно в тех точках, в которых личные таланты каждого из них обеспечивают максимальный положительный эффект, эмоциональный и интеллектуальный, от вложения сил и размышлений. Тогда становится ясно, кто именно в научной среде оценивает значение результатов исследований: это делают все члены группы, как на собрании общины квакеров. «Авторитетность научного мнения остается преимущественно взаимной; она формируется среди ученых, а не над ними»[123]. Бывают ведущие ученые, ученые, которые работают в точках роста своих дисциплин необыкновенно плодотворно; но в науке нет верховных правителей. Ею управляет коллективное согласие. Не всякий ученый способен оценить любой вклад. Сетевая структура устраняет и это затруднение. Предположим, ученый М объявляет о новом результате. Он знает свой чрезвычайно специализированный предмет лучше всех на свете; кто же в таком случае может обладать компетенцией, необходимой, чтобы оценить его работу? Но рядом с ученым М работают ученые L и N. Поскольку предметы их исследований частично пересекаются с областью работы М, они достаточно хорошо понимают его работу, чтобы судить о ее качестве и достоверности, а также понять, как она соотносится с общей научной картиной. Кроме L и N есть еще и другие ученые, K и O, а также J и P, которые достаточно хорошо знают L и N, чтобы решить, можно ли доверять их суждению о работе М. И эта цепочка продолжается дальше и дальше, вплоть до ученых A и Z, которые работают в области, почти совершенно отличной от сферы интересов М. «Эта сеть и есть вместилище научного мнения, – подчеркивал Полани, – мнения, не присущего разуму какого-то отдельного человека, но разделенного на тысячи разных фрагментов, мнения, которого придерживаются множественные индивидуумы, каждый из которых поддерживает мнение другого опосредованно, полагаясь на согласованные цепочки, которые связывают его со всеми остальными через последовательность пересекающихся сообществ»[124]. Наука, подразумевал Полани, работает как гигантский мозг, образованный связанными между собою индивидуальными разумами. Это и есть источник ее кумулятивной и, по-видимому, непреодолимой силы. Но сила эта, как тщательно подчеркивают и Полани, и Фейнман, достается ценой добровольного самоограничения. Науке удается решать трудную задачу поддержания сети политических связей между людьми разного происхождения и разных взглядов и даже еще более трудную задачу определения правил шахматной игры, в которую играют боги, благодаря жестким ограничениям области своей деятельности. «Физика, – как однажды напомнил группе своих коллег Юджин Вигнер, – даже не пытается дать нам полную информацию о событиях, которые происходят вокруг нас: она дает нам информацию о корреляциях между этими событиями»[125]. Что по-прежнему оставляет открытым вопрос о том, на какие стандарты ориентируются ученые, когда выносят оценку работе своих коллег. Хорошая наука, оригинальная работа всегда выходят за пределы общепринятых мнений, всегда содержат элемент несогласия с ортодоксальными взглядами. Как же в таком случае выразители ортодоксальных взглядов могут оценить их по достоинству? Полани предположил, что науку защищает от окостенения существующая в ней структура учителей и учеников. Учитель прививает ученику высокие стандарты суждений. В то же время ученик обучается доверять своему собственному суждению: он узнает о возможности и необходимости несогласия. Из книг и лекций можно узнать правила; учителя обучают осознанному бунту, хотя бы на примере своей собственной оригинальной – и, следовательно, бунтовщической в этом смысле – работы. Ученики познают три общих критерия научного суждения[126]. Первый из этих критериев – правдоподобие. Он позволяет отсеять безумцев и жуликов. Он также может приводить (и иногда приводил) к отбрасыванию идей, слишком оригинальных, чтобы ортодоксальное мышление могло осознать их, – но чтобы наука вообще могла работать, с этой опасностью приходится мириться. Второй критерий – научная ценность, составная величина, содержащая в равных долях точность, важность для всей системы науки или той ее ветви, к которой относится данная идея, и степень интереса, который порождает сущность работы. Третий критерий – оригинальность. Патентные эксперты оценивают оригинальность изобретения по тому, насколько неожиданным оно оказывается для специалиста, знакомого с соответствующей областью. Ученые оценивают новые теории и новые открытия подобным же образом. Правдоподобие и научная ценность позволяют оценить качество идеи по стандартам ортодоксальной точки зрения; оригинальность определяет степень ее отклонения от ортодоксальности. Предложенная Полани модель открытой научной республики, в которой каждый из ученых судит о работе своих коллег по общепризнанным и поддерживаемым всеми критериям, объясняет, почему идея атома обладала столь неустойчивым статусом в физике XIX века. Она была правдоподобна; она обладала значительной научной ценностью, особенно с системной точки зрения; однако никаких неожиданных открытий, касающихся атома, еще никому не удалось совершить. По крайней мере, таких открытий, которые были бы достаточно убедительными для сети из всего лишь приблизительно тысячи мужчин и женщин всего мира, которые в 1895 году называли себя физиками[127], – а также для более многочисленной сети химиков, связанной с первой. Время атома было на подходе. В XIX веке самые неожиданные открытия в фундаментальной науке делались в химии. В первой половине века XX источником великих неожиданностей в фундаментальной науке стала физика. В 1895 году, когда юный Эрнест Резерфорд приехал с другого конца света в Кавендишскую лабораторию, чтобы изучать физику в надежде составить себе имя в этой области, Новая Зеландия, которую он покинул, была еще территорией малоосвоенной. Инакомыслящие британские ремесленники и крестьяне, а также некоторые искатели приключений из дворян заселили этот суровый вулканический архипелаг в 1840-х годах, потеснив приплывших из Полинезии маори, которые открыли его за пять столетий до этого. Серьезное сопротивление маори, вылившееся в несколько десятилетий кровавых стычек, закончилось лишь в 1871 году, в котором и родился Резерфорд. Он учился в недавно созданных школах, гонял коров на дойку, ездил верхом в буш охотиться на диких голубей, сидящих на покрытых ягодами ветвях деревьев миро[128], помогал на льнопрядильной фабрике своего отца в Брайтуотере, на которой дикий лен, собранный в местных болотах, замачивали, мяли и трепали, получая из него льняные нити и очески. Два младших брата Резерфорда утонули; вся семья в течение нескольких месяцев искала их на берегах Тихого океана вокруг фермы. Его детство было трудным и здоровым. Резерфорд увенчал его стипендиями на обучение – сначала в скромном колледже имени Нельсона в близлежащем городе Нельсоне на Южном острове, затем в Университете Новой Зеландии, в котором он в возрасте двадцати двух лет получил магистерскую степень сразу по двум специализациям, математике и физике. Он был человеком крепким, энергичным и сообразительным, и все эти качества потребовались ему на пути из новозеландской сельской глуши к руководству британской наукой. Еще одно, более тонкое качество – проницательность деревенского парня в сочетании с характерной для далеких от цивилизации мест глубокой неиспорченностью – сыграло важнейшую роль в тех беспрецедентных научных открытиях, которые он совершил в течение своей жизни. Как сказал его воспитанник Джеймс Чедвик, главной отличительной чертой Резерфорда был «его талант удивляться»[129]. Он сохранил это качество, несмотря на все свои успехи и несмотря на тщательно замаскированную, но иногда чрезвычайно болезненную неуверенность в себе[130], грубый шрам, оставленный его колониальным происхождением. Первую возможность для проявления своих талантов Резерфорд нашел в Университете Новой Зеландии, в котором он получил в 1893 году степень бакалавра. «Электрические волны», открытые в 1887 году Генрихом Герцем, – сейчас мы называем их радиоволнами – произвели на Резерфорда, как и на других молодых людей по всему миру, сильнейшее впечатление. Для изучения этих волн он собрал в промозглом подвальном чулане так называемый вибратор Герца – электрически заряженные металлические шары, установленные с зазором, благодаря которому между металлическими пластинами проскакивают искры. Он искал задачу, которая могла бы стать темой его первого независимого исследования. Такую задачу он нашел в общепринятом среди ученых – в число которых входил и сам Герц – мнении, что переменный ток высокой частоты, то есть такой, какой возникает в вибраторе Герца, когда между металлическими пластинами в обоих направлениях быстро пролетает искровое излучение, не вызывает намагничивания железа. Резерфорд предположил, что это не так, и нашел изобретательное доказательство своей правоты. За эту работу он получил стипендию Всемирной выставки 1851 года[131] на работу в Кембридже. Когда пришла телеграмма, Резерфорд копал картошку в домашнем огороде. Его мать прокричала новость с другого конца борозды; он рассмеялся, отбросил лопату и воскликнул, отмечая момент, торжественный и для сына, и для матери: «Я выкопал свою последнюю картофелину!»[132] Тридцать шесть лет спустя, когда ему был пожалован титул барона Резерфорда Нельсонского, его мать, в свою очередь, получила следующую телеграмму: «Теперь [я] лорд Резерфорд, и твоей заслуги в этом больше, чем моей»[133]. Работа под названием «Намагничивание железа высокочастотными разрядами»[134] сочетала в себе мастерские наблюдения и отважное инакомыслие. Проявив глубокую оригинальность, Резерфорд заметил слабую обратную реакцию, возникающую при намагничивании железных иголок током высокой частоты: при пропускании высокочастотного тока происходит частичное размагничивание иголок, уже намагниченных до насыщения. Здесь и сработал его талант удивляться. Он быстро понял, что радиоволны, принимаемые соответствующей антенной и подаваемые в проволочную обмотку, можно использовать для создания в пучке намагниченных иголок высокочастотного тока. Это вызовет частичное размагничивание иголок, и, если поместить рядом с ними компас, это изменение можно будет заметить по отклонению его стрелки. К сентябрю 1895 года, когда Резерфорд добрался на одолженные деньги до Кембриджа, где он должен был начать работать под руководством прославленного директора Кавендишской лаборатории Дж. Дж. Томсона, он разработал на основе своих наблюдений устройство для улавливания радиоволн на расстоянии – по сути дела, первый, еще весьма несовершенный, радиоприемник. В это время Гульельмо Маркони еще доводил свою модель радиоприемника до совершенства в итальянском имении отца; в течение нескольких месяцев молодой новозеландец удерживал мировой рекорд по дальности приема радиопередач[135]. Опыты Резерфорда привели в восторг заслуженных британских ученых, узнавших о них от Томсона. Они быстро приняли Резерфорда в свою среду: однажды вечером его даже усадили на почетное место рядом с ректором за профессорским столом Кингс-колледжа. По его словам, он чувствовал себя там «как осел в львиной шкуре»[136], а некоторые снобы из числа сотрудников Кавендишской лаборатории просто позеленели от зависти. Благодаря великодушной помощи Томсона 18 июня 1896 года Резерфорд, нервничая, но внутренне ликуя, представил свою третью научную статью под названием «Магнитный детектор электрических волн и некоторые его применения»[137] на заседании лондонского Королевского общества, ведущей научной организации мира. Маркони догнал его лишь в сентябре[138]. Резерфорд был беден. Он был обручен с Мэри Ньютон, дочерью хозяйки квартиры, которую он снимал, когда учился в Университете Новой Зеландии, но свадьбу отложили до улучшения его материального положения. В то время, когда он трудился, чтобы добиться такого улучшения, он писал своей невесте: «Я занимаюсь темой [приема радиоволн] так интенсивно из-за ее практической важности… Если опыты, которые я буду проводить на следующей неделе, пройдут так, как я ожидаю, я вижу в будущем возможность быстрого заработка»[139]. Тут есть одна загадка, и загадка эта тянется вплоть до самой речи о «лунных миражах». Впоследствии Резерфорд был известен своим строгим отношением к бюджету исследовательской работы, нежеланием принимать финансирование от промышленных компаний или частных спонсоров, нежеланием даже запрашивать финансирование и убежденностью в том, что все можно сделать «при помощи сургуча и бечевки». Он терпеть не мог коммерциализации научных исследований и, например, когда его русскому ученику Петру Капице предложили работу консультанта в промышленной компании, сказал ему: «Нельзя одновременно служить Богу и Мамоне»[140]. Загадка эта касается того, что Ч. П. Сноу, знавший Резерфорда, назвал «единственным любопытным исключением» из «непогрешимости» его интуиции, добавив при этом, что «еще не было ученого, который допустил бы так мало ошибок»[141][142]. Это исключение – нежелание Резерфорда допустить возможность извлечения из атома полезной энергии, то самое нежелание, которое так раздражало в 1933 году Лео Сциларда. «Мне кажется, он боялся, что его любимую область ядерных исследований вот-вот захватят неверные, которые хотят разгромить ее ради коммерческой эксплуатации»[143], – рассуждает другой воспитанник Резерфорда, Марк Олифант. Однако в январе 1896 года сам Резерфорд активно стремился к коммерческой эксплуатации радио. Чем же была вызвана столь резкая перемена, определившая всю его дальнейшую жизнь? Сохранившиеся сведения неоднозначны, но дают некоторое представление о произошедшем. В соответствии с исторической традицией английская наука была занятием благородным. Патенты на открытия, а также любые другие юридические и коммерческие ограничения, которые могли помешать свободному распространению научных результатов, как правило, считались в ней делом недостойным. На практике такая защита свободы науки могла выродиться в высокомерное презрение к «вульгарной меркантильности». Физик Эрнест Марсден, учившийся у Резерфорда и ставший его вдохновенным биографом, слышал, что «в начальный период его работы в Кембридже по меньшей мере некоторые говорили, что Резерфорд – человек неотесанный»[144]. Одной из составляющих таких сплетен могло быть презрение к его стремлению извлечь выгоду из работ, связанных с радио. По-видимому, в дело вмешался Дж. Дж. Томсон. Внезапно открылось огромное новое поле деятельности. 8 ноября 1895 года, через месяц после прибытия Резерфорда в Кембридж, немецкий физик Вильгельм Рентген открыл «икс-лучи», исходящие из стенок катодной трубки, сделанных из флуоресцирующего стекла. В декабре Рентген сообщил о своем открытии и поверг в изумление весь мир. Это странное излучение стало новой точкой роста науки, и Томсон почти немедленно принялся за его изучение. Одновременно с этим он продолжал и свои опыты с катодными лучами, в завершение которых он обнаружил в 1897 году частицу, которую назвал «отрицательной корпускулой», – то есть электрон, первую из открытых составляющих атома. В этой работе ему неизбежно нужны были помощники. Кроме того, он не мог не понимать, какие необычайные возможности для проведения оригинальных исследований откроет это излучение перед молодым человеком, обладающим такими талантами экспериментатора, как Резерфорд. Чтобы разрешить этот вопрос, Томсон написал патриарху британской науки лорду Кельвину, которому было тогда семьдесят два года, и спросил его мнение о коммерческих перспективах радио – как говорит Марсден, «прежде, чем попытаться соблазнить Резерфорда новой темой». В конце концов, как бы там ни обстояло дело с вульгарной меркантильностью, именно Кельвин спроектировал трансокеанский телеграфный кабель. «Великий человек ответил, что развитие [радио] может оправдать капитальные вложения в компанию стоимостью порядка 100 000 фунтов, но не более того»[145]. К 24 апреля Резерфорд прозрел. Он писал Мэри Ньютон: «Я надеюсь свести концы с концами, но в первый год мне, видимо, потребуется дополнительная помощь… Моя научная работа пока что продвигается медленно. В этом семестре я занимаюсь вместе с Профессором рентгеновскими лучами. Моя старая тема мне несколько надоела, и я рад сменить ее на что-то другое. Мне кажется, что мне будет полезно некоторое время поработать с Профессором. Я уже провел одно исследование и продемонстрировал, что могу работать самостоятельно»[146]. Письмо написано в смиренном и вовсе не уверенном тоне, как если бы через Резерфорда к его невесте по-отечески обращался призрак Дж. Дж. Томсона. Резерфорд еще не выступал перед Королевским обществом – по этому выступлению совершенно не казалось, что его тема ему «несколько надоела». Но его обращение уже свершилось. Отныне все устремления Резерфорда касались не коммерческого успеха, а научной славы. Кажется вполне вероятным, что Дж. Дж. Томсон усадил молодого и пылкого Эрнеста Резерфорда в обитом темными панелями кабинете в неоготической Кавендишской лаборатории, которую основал Джеймс Клерк Максвелл, в том же университете, в котором Ньютон писал свои великие «Начала», и деликатно сказал ему, что нельзя одновременно служить Богу и Мамоне. Вполне вероятно, что известие о том, что заслуженный директор Кавендишской лаборатории написал небожителю лорду Кельвину о коммерческих устремлениях энергичного новозеландца, смертельно огорчило Резерфорда, и он вышел после этого разговора, чувствуя себя каким-то нелепым выскочкой. Он никогда больше не повторял этой ошибки, даже если его лаборатории оставались из-за этого без финансирования, даже если это заставляло уходить лучших из его учеников – а так оно в конце концов и случалось. Даже если это означало, что получение энергии из его любимого атома было всего лишь миражом. Но, отказавшись от коммерческой выгоды ради святой науки, Резерфорд получил взамен сам атом. Он открыл составляющие его части и дал им названия. При помощи сургуча и бечевки он сделал атом реальным. Сургуч был кроваво-красным, и именно из него состоял самый заметный вклад Банка Англии в развитие науки[147]. Британские экспериментаторы использовали банковский сургуч для герметизации стеклянных трубок. Первая работа Резерфорда по исследованию атома, как и работа Дж. Дж. Томсона с катодными лучами, возникла на основе проводившихся в XIX веке исследований поразительных эффектов, которые возникают, если из стеклянной трубки, к концам которой припаяны металлические пластины, откачать воздух, а затем подсоединить эти пластины к батарее или катушке индуктивности. Под действием электрического заряда пустота[148] внутри герметичной трубки начинает светиться. Это свечение исходит от отрицательно заряженной пластины – катода – и поглощается пластиной, заряженной положительно, – анодом. Если изготовить анод в форме цилиндра и поместить этот цилиндр в середину трубки, можно заставить пучок такого свечения – или катодных лучей – проходить сквозь цилиндр до конца трубки, противоположного катоду. Если энергия этого пучка достаточно высока, чтобы он смог достичь стеклянной стенки, он заставляет стекло флуоресцировать. Такая катодная трубка, должным образом видоизмененная – с уплощенным стеклянным концом, покрытым фосфором для усиления флуоресценции, – становится телевизионным кинескопом. Весной 1897 года Томсон продемонстрировал, что пучок светящегося вещества в катодной трубке не состоит из световых волн, как (сухо писал он)«почти единодушно считают немецкие физики». На самом деле катодные лучи оказались отрицательно заряженными частицами, вылетающими с отрицательного катода и притягиваемыми положительным анодом. Эти частицы можно отклонить электрическим полем и направить по криволинейной траектории полем магнитным. Частицы эти гораздо легче атома водорода и одинаковы, «каким бы ни был газ, через который проходит разряд»[149], если такой газ ввести в трубку. Поскольку они легче, чем самый легкий из известных элементов материи и одинаковы независимо от того, из какого вещества они получаются, следовало заключить, что эти частицы представляют собой некую основополагающую составную часть материи, а раз они представляют собой часть, то должно существовать и некое целое. Из существования реального, физического электрона вытекало существование реального, физического атома: таким образом, корпускулярная теория вещества впервые была убедительно подтверждена физическим опытом. На ежегодном банкете Кавендишской лаборатории в честь этого достижения Дж. Дж. Томсона была исполнена песня:
Имея в своем распоряжении электрон и зная из других экспериментов, что после удаления электронов от атома остается гораздо более массивная часть с положительным зарядом, Томсон разрабатывал в течение следующего десятилетия модель атома, которую стали называть «пудинговой моделью». Атом по Томсону, состоящий из «нескольких отрицательно заряженных корпускул, заключенных в сферу, имеющую однородно распределенный положительный электрический заряд»[151], подобно изюму в пудинге, представлял собой гибрид, сочетание корпускулярных электронов и распределенной в пространстве остальной части. Эта модель была полезна тем, что позволяла показать математически, что электроны могут образовывать внутри атома устойчивые конфигурации и что такие устойчивые с математической точки зрения конфигурации могут объяснять сходства и различия, которые проявляют химические элементы периодической системы. Начинало проясняться, что именно электроны отвечают за сходные химические свойства разных элементов, что химия, по сути дела, сводится к электрическим процессам.
В 1894 году Томсон чуть было не открыл рентгеновские лучи[152]. Если верить легенде, ему все же не повезло не так сильно, как оксфордскому физику Фредерику Смиту, который обнаружил, что фотопластинки, которые хранились рядом с катодной трубкой, помутнели, и просто велел своему ассистенту переложить их в другое место[153]. Томсон заметил, что стеклянные трубки, находящиеся «на расстоянии нескольких футов от разрядной трубки»[154], флуоресцируют так же, как стенки самой катодной трубки, на которые падают катодные лучи, но он был слишком занят исследованием самих этих лучей и не стал исследовать причину этого явления. Рентген выделил этот эффект, закрыв катодную трубку черной бумагой. Когда оказалось, что установленный поблизости экран из флуоресцентного материала все равно продолжает светиться, Рентген понял: то, что вызывает свечение экрана, проходит сквозь бумагу и окружающий экран воздух. Когда он помещал свою руку между закрытой бумагой трубкой и экраном, это несколько ослабляло свечение экрана, но зато в появляющейся на экране темной тени он видел свои кости.
Открытие Рентгена заинтересовало не только Дж. Дж. Томсона и Резерфорда, но и других физиков. Француз Анри Беккерель был физиком в третьем поколении: вслед за своим дедом и отцом он возглавлял кафедру физики в парижском Музее естественной истории. Также подобно отцу и деду он был специалистом по фосфоресценции и флуоресценции – причем лично он специализировался на свечении урана. Отчет о работе Рентгена он прослушал на еженедельном заседании Академии наук 20 января 1896 года. Узнав, что рентгеновские лучи испускаются флуоресцентным стеклом, он немедленно решил проверить разные флуоресцентные материалы, чтобы узнать, не испускают ли и они также рентгеновские лучи. Проработав над этим вопросом в течение десяти дней, он не получил никаких положительных результатов, а 30 января прочитал статью по рентгеновским лучам, которая вдохновила его на продолжение исследований и навела на мысль попробовать одну из солей урана, двойной сульфат уранила и калия[155].
Первый его опыт прошел успешно – он обнаружил, что соль урана испускает излучение, – но привел его к ошибочным выводам. Он запечатал фотографическую пластинку в черную бумагу, нанес на бумагу слой соли урана и «выдержал все вместе на солнце в течение нескольких часов». Проявив фотопластинку, он «увидел на негативе черный силуэт фосфоресцирующего вещества»[156]. Беккерель ошибочно решил, что это явление было активировано солнечным светом, подобно тому, как катодные лучи вызывают испускание рентгеновского излучения из стекла.
История удачливости Беккереля, проявившейся после этого, стала легендарной. Когда он попытался повторить свой опыт, 26, а затем 27 февраля, в Париже было пасмурно. Он убрал завернутую фотопластинку, по-прежнему с нанесенной на нее урановой солью, в темный ящик. 1 марта он решил все-таки проявить пластинку, «ожидая, что изображение получится очень блеклым. Напротив, силуэты проявились с высокой интенсивностью. Я сразу подумал, что этот процесс, возможно, способен продолжаться и в темноте»[157]. Высокоэнергетическое, проницающее излучение инертной материи, возникающее без стимуляции солнечными лучами: теперь у Резерфорда появилась тема для исследований, а Пьер и Мария Кюри смогли взяться за свою изнурительную работу по поиску чистого излучающего элемента.
Между 1898 годом, когда Резерфорд впервые обратил внимание на это явление, открытое Анри Беккерелем и названное Марией Кюри радиоактивностью, и 1911 годом, в котором он совершил самое важное в своей жизни открытие, молодой новозеландский физик систематически трудился над расщеплением атома.
Он изучал виды излучения, испускаемого ураном и торием, и дал названия двум из них: «Эти опыты показывают, что излучение урана неоднородно по составу – в нем присутствуют по крайней мере два излучения различного типа. Одно очень сильно поглощается, назовем его для удобства α-излучением, а другое имеет бо́льшую проникающую способность, назовем его ß-излучением»[158][159]. Впоследствии француз П. У. Виллар открыл третий тип радиации, отличный от остальных, вид высокоэнергетических рентгеновских лучей, названный в соответствии со схемой Резерфорда гамма-излучением[160]. Эта работа была выполнена в Кавендишской лаборатории, но ко времени ее публикации в 1899 году Резерфорд, которому было тогда двадцать семь лет, перебрался в Монреаль и стал профессором физики в Университете Макгилла. Один канадский торговец табаком пожертвовал университету средства на строительство физической лаборатории и финансирование нескольких профессорских кафедр, в том числе и той, которую занял Резерфорд[161]. «Университет Макгилла пользуется хорошей репутацией, – писал Резерфорд матери. – 500 фунтов – совсем не плохое жалованье, а поскольку физическая лаборатория в нем лучшая в мире в своем роде, жаловаться мне не приходится»[162].
В 1900 году Резерфорд объявил об открытии радиоактивного газа, выделяющегося из радиоактивного элемента тория[163]. Мария и Пьер Кюри вскоре выяснили, что радий (который они выделили из урановой руды в 1898 году) также испускает радиоактивный газ. Чтобы понять, являются ли «выделения» тория также торием или каким-либо другим веществом, Резерфорду нужен был хороший химик; по счастью, ему удалось переманить к себе работавшего в том же университете молодого оксфордского выпускника Фредерика Содди, талантов которого в конце концов оказалось достаточно для получения Нобелевской премии. «В начале зимы [1900 года], – вспоминает Содди, – бывший тогда младшим профессором физики Эрнест Резерфорд зашел ко мне в лабораторию и рассказал об открытиях, которые он сделал. Он только что вернулся со своей молодой женой из Новой Зеландии… но еще до отъезда из Канады он открыл то, что сам он называл ториевой эманацией… Меня это, разумеется, очень заинтересовало, и я предположил, что следует изучить химические свойства этого [вещества]»[164].
Оказалось, что этот газ начисто лишен каких бы то ни было химических свойств. Из этого, как говорит Содди, «вытекал важнейший и неизбежный вывод о том, что торий медленно и самопроизвольно превращается в [химически инертный] газ аргон!»[165][166]. Содди и Резерфорд наблюдали самопроизвольный распад радиоактивных элементов – это было одно из крупнейших открытий физики XX века. Они взялись за изучение того, как именно уран, радий и торий превращаются в другие элементы путем испускания части своих атомов в виде альфа- и бета-частиц. Они обнаружили, что каждое из разных радиоактивных веществ обладает характерным для него «временем полураспада», то есть временем, за которое интенсивность его излучения уменьшается вдвое по сравнению с ранее измеренной величиной. Время полураспада соответствует времени превращения половины атомов исходного элемента в атомы другого элемента или физически отличного вида того же элемента – «изотопа», как назвал его Содди[167]. Время полураспада стало инструментом для обнаружения присутствия преобразованного вещества – «продуктов распада» – в количествах, слишком малых для обнаружения химическими методами. Для урана время полураспада оказалось равным 4,5 миллиарда лет, для радия – 1620 годам, для одного из продуктов распада тория – 22 минутам, а для другого продукта распада тория – 27 суткам. Некоторые из продуктов распада возникали и сами превращались в другие элементы за малые доли секунды – буквально в мгновение ока. Эта работа была чрезвычайно важной с точки зрения физики, она открывала восхищенному взору исследователя все новые и новые области, и, как вспоминал впоследствии Содди, «в течение более чем двух лет жизнь была полна такой суматохи, какая редко встречается на протяжении всей жизни человека и даже, возможно, на протяжении всей жизни целой организации»[168].
Попутно Резерфорд исследовал излучение, испускаемое радиоактивными элементами во время их превращений. Он доказал, что бета-излучение состоит из высокоэнергетических электронов, «во всех отношениях подобных катодным лучам»[169]. Он подозревал, а позднее, уже в Англии, и убедительно доказал, что альфа-частицы – это положительно заряженные атомы[170] гелия, испускаемые в процессе радиоактивного распада. Гелий находят заключенным внутри кристаллической структуры урановой и ториевой руды; теперь Резерфорд знал, с чем это связано.
В 1903 году Содди написал важную статью под названием «Радиоактивные преобразования» (Radioactive Change), в которой были приведены первые обоснованные расчеты количества энергии, выделяющейся при радиоактивном распаде:
Поэтому можно утверждать, что количество энергии, выделяющейся при распаде 1 г радия, не должно быть меньше 108 кал и может быть заключено в пределах от 109 до 1010 кал. Энергия излучения не обязательно равна полной энергии распада, а может составлять лишь малую ее часть, поэтому с достаточной уверенностью можно принять значение 108 кал как наименьшую вероятную величину энергии радиоактивного превращения радия. При соединении водорода и кислорода выделяется примерно 4 · 103 кал на 1 г образующейся воды, а ведь при этой реакции на единицу веса выделяется большее количество энергии, чем при любом другом известном нам химическом превращении. Следовательно, энергия радиоактивного превращения по крайней мере в двадцать тысяч, а может быть, и в миллион раз превышает энергию любого молекулярного превращения[171][172].Таково было строгое научное утверждение; неформально же Резерфорд был склонен к причудливой эсхатологии. Один из кембриджских ученых, писавший в том же 1903 году статью по радиоактивности, подумывал процитировать высказанное Резерфордом «шутливое предположение о том, что, если только найдется подходящий детонатор, можно будет представить себе возможность запуска в материи волны атомного распада, которая и впрямь спалит весь наш старый мир дотла»[173]. Резерфорд часто шутил, что «какой-нибудь дурак, работая в лаборатории, может ненароком взорвать Вселенную»[174]. Даже если атомной энергии и не суждено было стать полезной, она вполне могла быть опасной. Содди, вернувшийся в том же году в Англию, исследовал эту тему более серьезно. В своем докладе по радию, прочитанном в 1904 году перед Корпусом королевских инженеров, он дальновидно рассуждал о некоторых из возможных применений атомной энергии:
Вероятно, любое тяжелое вещество обладает – находящейся в скрытом виде и связанной структурой атома – энергией, количество которой сходно с содержащимся в радии. Если бы эту энергию можно было извлечь управляемым образом, какое мощное средство для определения судеб мира можно было бы получить! Человек, взявший в руки рычаг, при помощи которого природа столь скупо отмеривает выдачу энергии из этих запасов, получил бы в свое распоряжение оружие, которым он мог бы, если бы захотел, уничтожить всю Землю.Содди не считал такую возможность вероятной: «Сам факт нашего существования доказывает, что [крупномасштабного высвобождения энергии] никогда не случалось; а то, что такого не случалось раньше, есть наилучшая из возможных гарантий того, что этого не произойдет и впредь. Мы можем рассчитывать на то, что Природа сохранит свою тайну»[175]. Когда Герберт Уэллс прочитал сходные утверждения в вышедшей в 1909 году книге Содди «Интерпретация радия»[176] (Interpretation of Radium), ему не показалось, что Природа настолько заслуживает доверия. «Я позаимствовал свою идею у Содди», – писал он о книге «Освобожденный мир». Он назвал свое произведение «одним из старых добрых научных романов»[177]; оно было для него настолько важным, что для его написания он прервал серию романов социальных. Таким образом, именно рассуждения Резерфорда и Содди о радиоактивных превращениях послужили источником вдохновения для того научно-фантастического романа, который в конце концов навел Лео Сциларда на размышления о цепных реакциях и атомных бомбах. Летом 1903 года Резерфорды побывали в Париже и посетили супругов Кюри. Так совпало, что именно в день их приезда Мария Кюри получала свою докторскую степень по естественным наукам; общие друзья организовали празднование этого события. «После весьма оживленного вечера, – вспоминал Резерфорд, – около 11 часов мы вышли в сад, и профессор Кюри вынес туда трубку, частично покрытую сульфидом цинка, в которой содержалось большое количество раствора радия. Она ярко светилась в темноте, и это стало великолепным завершением этого незабываемого дня». Покрытие из сульфида цинка флуоресцировало белым светом, что позволяло увидеть в темноте парижского вечера, как радий испускает частицы высокой энергии, сдвигаясь по периодической системе от урана к свинцу. Свечение было настолько ярким, что Резерфорд смог рассмотреть руки Пьера Кюри, бывшие «в чрезвычайно воспаленном и болезненном состоянии в результате воздействия лучей радия»[178]. Опухшие от радиационных ожогов руки были еще одной наглядной иллюстрацией того, на что способна энергия, содержащаяся в материи. В 1905 году к Резерфорду в Монреаль приехал тридцатишестилетний немецкий химик Отто Ган. До этого Ган уже открыл новый «элемент» радиоторий, но впоследствии стало ясно, что он представляет собой один из двенадцати изотопов тория. Вместе с Резерфордом он исследовал излучение тория; вместе они установили, что альфа-частицы, испускаемые торием, имеют ту же массу, что и альфа-частицы, испускаемые другим радиоактивным элементом, актинием. Таким образом, речь, вероятно, шла об одних и тех же частицах – и этот вывод стал еще одним шагом к доказательству того, что альфа-частица представляет собой заряженный атом[179] гелия, которое Резерфорд получил в 1908 году. В 1906-м Ган вернулся в Германию, где его ждала славная карьера первооткрывателя изотопов и химических элементов; Лео Сцилард встретился с ним, когда работал в 1920-х годах в берлинском Институте химии кайзера Вильгельма вместе с физиком Лизой Мейтнер. Исследования по распутыванию сложных превращений радиоактивных элементов, которые Резерфорд проводил в Университете Макгилла, принесли ему в 1908 году Нобелевскую премию – но не по физике, а по химии. Он стремился к этой премии и писал жене в конце 1904 года, когда она вернулась в Новую Зеландию повидаться с родными: «Если я буду продолжать в том же духе, у меня может быть шанс»[180]; а в начале 1905 года снова: «Все идут за мной по пятам, и чтобы у меня была хоть какая-то надежда получить Нобелевскую премию в ближайшие годы, мне необходимо продолжать развивать свою работу»[181]. То, что он получил премию по химии, а не по физике, его по меньшей мере забавляло. «Его до самого конца отлично можно было этим дразнить, – говорит его зять, – и он прекрасно понимал комизм этой истории, что на него навечно приклеили ярлык химика, а не настоящего физика»[182]. Те, кто присутствовал на церемонии[183], говорили, что Резерфорд выглядел до смешного молодо – ему было тридцать семь лет – и произнес самую важную речь этого вечера. Он объявил о недавно полученном доказательстве того, что альфа-частицы на самом деле представляют собой гелий, – в предыдущем месяце было обнародовано лишь краткое сообщение об этих результатах[184]. Доказательство это было получено в эксперименте, проведенном с характерным изяществом. Резерфорд заказал стеклодувам трубку с чрезвычайно тонкими стенками. Откачав воздух из этой трубки, он заполнил ее газообразным радоном, мощным источником альфа-частиц. Трубка была герметичной для газов, но альфа-частицы могли вылетать из нее сквозь тонкие стенки. Трубку с радоном Резерфорд поместил в другую стеклянную трубку, откачал воздух из пространства между трубками и загерметизировал его. «Через несколько дней, – торжествующе сказал он своим слушателям в Стокгольме, – во внешнем сосуде наблюдался яркий спектр гелия»[185]. Опыты Резерфорда до сих пор ошеломляют своей простотой. «В этом отношении Резерфорд был настоящим художником, – говорит один из его бывших учеников. – Все его опыты были элегантны»[186]. Весной 1907 года Резерфорд уехал из Монреаля вместе со своей семьей – в которую к тому времени входила и шестилетняя дочь, его единственный ребенок, – и вернулся в Англию. Он согласился занять должность профессора физики в Манчестере, том самом городе, в котором Джон Дальтон почти в точности за век до того положил начало возрождению атомистической теории. Резерфорд купил там дом и сразу приступил к работе. Вместе с кафедрой ему достался опытный немецкий физик Ханс Гейгер, бывший ассистентом у его предшественника. Много лет спустя Гейгер тепло вспоминал те манчестерские дни и Резерфорда, окруженного научным оборудованием:
Я вижу его тихий рабочий кабинет на верхнем этаже физического корпуса, под самой крышей, где хранился его радий и было выполнено столько знаменитых работ по радиоактивным выделениям. Но я вижу также и мрачный подвал, в котором он установил свои точные приборы для изучения альфа-лучей. Резерфорд обожал эту комнату. Нужно было спуститься на две ступеньки, и тогда из темноты раздавался голос Резерфорда, который предупреждал, что нужно не задеть головой проходящую через комнату горячую трубу и не споткнуться о еще две водопроводных трубы. После этого наконец можно было увидеть в слабом освещении и самого великого мужа, сидящего за своими приборами[187].Дом Резерфорда был местом более жизнерадостным; еще один из его манчестерских питомцев с удовольствием вспоминал «проходившие по субботам и воскресеньям ужины в выкрашенной белым столовой, за которыми следовали сборища в кабинете на втором этаже, продолжавшиеся до глубокой ночи; воскресные чаепития в гостиной, часто сопровождавшиеся автомобильными прогулками по дорогам Чешира»[188]. Спиртного в доме не было, потому что Мэри Резерфорд его употребления не одобряла. Ей пришлось поневоле смириться с курением, так как ее муж курил постоянно – и трубку, и сигареты. К началу среднего возраста он стал известен своей громогласностью – один из учеников назвал его «вождем племени» – и любовью к шуткам и жаргону. Он расхаживал по лаборатории, фальшиво распевая «Вперед, Христово воинство»[189]. Теперь он стал видной фигурой; его трудно было не заметить. У него было румяное лицо с часто мигающими голубыми глазами и начало появляться весьма заметное брюшко. Его неуверенность в себе была хорошо замаскирована; его рукопожатие было коротким, мягким и несильным[190]. «Создавалось впечатление, – говорит еще один из его бывших учеников, – что он избегал физических контактов»[191]. Его по-прежнему могло выбить из колеи высокомерное отношение: тогда он густо краснел и отворачивался в замешательстве[192]. В общении со своими учениками он вел себя спокойнее и мягче, почти идеально. «Этот человек, – восхищенно говорит один из них, – никогда не жульничал»[193]. Биохимик Хаим Вейцман, еврей из России, ставший впоследствии первым президентом Израиля, исследовал в то время в Манчестере продукты ферментации. Они с Резерфордом стали добрыми друзьями. «Моложавый, энергичный, шумный, – вспоминал Вейцман, – он был похож на кого угодно, только не на ученого. Он охотно и напористо разглагольствовал на любую тему на свете, зачастую не зная о ней ничего. Когда я шел в столовую на обед, я слышал, как по коридору раскатывается его громкий, дружелюбный голос». Вейцман считал, что Резерфорд совершенно не разбирается в политике, но не винил его в этом, потому что все его время занимала важная научная работа. «Он был человеком добродушным, но терпеть не мог глупости»[194]. В сентябре 1907 года, во время своего первого семестра в Манчестере, Резерфорд составил список возможных тем для исследований. Седьмым пунктом в этом списке шло «Рассеяние альфа-лучей»[195]. Проработав несколько лет над определением сущности альфа-лучей, он смог оценить их достоинства в качестве инструмента для изучения атома; альфа-частицы были массивными по сравнению с практически невесомыми бета-частицами, то есть электронами, хотя последние и обладали более высокой энергией, и активно взаимодействовали с материей. Измерение таких взаимодействий могло дать информацию о строении атома. «Меня учили считать атом этаким симпатичным твердым объектом, красного или серого цвета, кому как нравится»[196], – сказал однажды Резерфорд, выступая на банкете. К 1907 году ему стало ясно, что атом – это вовсе не твердый объект, а по большей части пустое пространство. Немецкий физик Филипп Ленард продемонстрировал это еще в 1903 году, бомбардируя разные элементы катодными лучами[197]. Ленард описал свои результаты яркой метафорой: пространство, которое занимает кубический метр твердой платины, говорил он, так же пусто, как и межзвездное пространство за пределами Земли. Но если в атомах содержалось пустое пространство – пустота внутри пустоты, – было в них и нечто другое. В 1906 году, работая в Университете Макгилла, Резерфорд изучал магнитное отклонение альфа-частиц, проводя их сквозь узкую формующую щель и пропуская получившийся тонкий пучок через магнитное поле. В одном из опытов он закрыл половину формующей щели листом слюды толщиной всего около трех тысячных сантиметра, то есть достаточно тонким для пропускания альфа-частиц. Регистрируя результаты опыта на фотобумаге, он обнаружил, что краевые участки пучка, пропущенного сквозь слюду, оказались размытыми. Это означало, что во время прохождения альфа-частиц атомы слюды рассеивают многие из них – то есть отклоняют их от прямолинейной траектории на углы, достигающие 2°. Поскольку сильное магнитное поле рассеивало альфа-частицы, не прошедшие сквозь слюду, лишь немногим больше, тут явно происходило нечто необычное. Для такой массивной частицы, как альфа, летящей со столь высокой скоростью, отклонение на 2° было огромным. Резерфорд подсчитал, что для такого отклонения альфа-частиц требуется электрическое поле порядка 100 миллионов вольт на сантиметр слюды[198]. «Такой результат ясно показывает, – писал он, – что атомы вещества должны быть теми областями, где действуют очень интенсивные электрические силы, – вывод, который находится в согласии с электронной теорией вещества»[199][200]. Именно это рассеяние он и внес в свой список предметов для исследования. Для этого ему нужно было не только подсчитывать, но и видеть отдельные альфа-частицы. Уже в Манчестере он начал работу по совершенствованию необходимых для этого приборов. Вместе с Хансом Гейгером они стали разрабатывать электрическое устройство, которое отмечало бы прибытие каждой отдельной альфа-частицы в счетную камеру. Впоследствии Гейгер усовершенствовал это изобретение, получив знакомый нам счетчик Гейгера, который используется в современных исследованиях радиации. Отдельные альфа-частицы можно было сделать видимыми при помощи сульфида цинка – вещества, использованного для покрытия пробирок с раствором радия, которые Пьер Кюри принес в ночной парижский сад в 1903 году. Если взять маленькую стеклянную пластинку, покрытую сульфидом цинка, и бомбардировать ее альфа-частицами, в каждой ее точке, в которую попадает частица, на короткое время возникает флуоресценция. Это явление называют «сцинтилляцией», от латинского слова scintilla, то есть «искра». При помощи микроскопа можно различить и подсчитать отдельные слабые сцинтилляционные вспышки сульфида цинка. Этот метод был чрезвычайно трудоемким и утомительным. Экспериментаторы должны были провести по меньшей мере тридцать минут в темной комнате, чтобы их глаза привыкли к темноте, а затем по очереди подсчитывать вспышки в течение минуты каждый, меняясь по звонку таймера[201], – потому что дольше этого пристально рассматривать маленький темный экран было невозможно. Даже в микроскоп вспышки были еле-еле заметны, и наблюдатель, ожидавший возникновения определенного числа вспышек, иногда мог непреднамеренно видеть вспышки воображаемые. Таким образом, было неясно, насколько точным такой подсчет вообще может быть. Резерфорд и Гейгер сравнили результаты такого визуального подсчета с соответствующими данными электрического счетчика. Когда выяснилось, что наблюдатели обеспечивают достаточно точный подсчет, от электрического счетчика отказались. Он мог подсчитывать частицы, но не позволял их увидеть, а Резерфорда прежде всего интересовало определение положения альфа-частиц в пространстве. Гейгер продолжил изучение рассеяния альфа-частиц с помощью Эрнеста Марсдена, бывшего тогда восемнадцатилетним студентом Манчестерского университета. Они наблюдали альфа-частицы, вылетающие из трубки-источника и проходящие сквозь фольгу из разных металлов – алюминия, серебра, золота или платины. Результаты по большей части соответствовали ожиданиям: альфа-частицы вполне могли набрать до 2° суммарного отклонения, отражаясь от атомов, предполагаемых пудинговой моделью. Однако вызывало беспокойство присутствие в этом эксперименте частиц, поведение которых было аномальным[202]. Гейгер и Марсден считали, что их могут рассеивать молекулы стенок трубки-источника. Они попытались избавиться от аномальных частиц путем сужения и формования конца трубки набором металлических шайб калиброванного размера. Это не помогло. Однажды в лабораторию зашел Резерфорд. Втроем они обсудили эту проблему. Что-то в ней навело Резерфорда на интуитивное предположение о возможности интересных побочных явлений. Не придавая этому почти никакого значения, он повернулся к Марсдену и сказал: «Посмотрите, нельзя ли увидеть эффект прямого отражения альфа-частиц от металлической поверхности»[203]. Марсден знал, что результат такого опыта предположительно должен быть отрицательным – альфа-частицы должны пролетать сквозь тонкую фольгу, а не отражаться от нее, – но упустить положительный результат было бы непростительным прегрешением. Он самым тщательным образом подготовил сильный источник альфа-излучения и направил тончайший пучок альфа-частиц на лист золотой фольги под углом 45°. Сцинтилляционный экран был установлен с той же стороны от фольги, что и источник, так что частицы, отражающиеся назад, должны были попадать в экран и вызывать сцинтилляцию. Между источником и экраном Марсден расположил толстую свинцовую пластину, чтобы исключить вмешательство альфа-частиц, попадающих на экран прямо из источника.
 Схема эксперимента Эрнеста Марсдена: А—В – источник альфа-частиц, R—R – золотая фольга, Р – свинцовая пластина, S – сцинтилляционный экран из сульфида цинка, М – микроскоп
Схема эксперимента Эрнеста Марсдена: А—В – источник альфа-частиц, R—R – золотая фольга, Р – свинцовая пластина, S – сцинтилляционный экран из сульфида цинка, М – микроскоп
К своему удивлению, он немедленно обнаружил то, что искал. «Я хорошо помню, как рассказал об этом результате Резерфорду, – писал он, – которого я встретил на лестнице, ведущей в его комнату, и с каким восторгом сообщил ему об этом»[204]. Несколько недель спустя Гейгер и Марсден по указанию Резерфорда подготовили результаты опыта к публикации. «С учетом высокой скорости и массы α-частицы, – писали они в заключение, – кажется удивительным, что, как показывает этот эксперимент, некоторые из α-частиц могут быть повернуты в слое золота толщиной 6 × 10–5 [т. е. 0,00006] см на угол 90° и даже более. Для получения аналогичного эффекта в магнитном поле потребовалось бы поле огромной напряженности в 109 абсолютных единиц»[205]. Тем временем Резерфорд продолжал размышлять о том, что может означать такое рассеяние. Размышлял он об этом, занимаясь в то же время другой работой, больше года. В самом начале он интуитивно понял, что означает этот эксперимент, но затем это понимание пропало[206]. Даже после того, как он обнародовал свои потрясающие выводы, ему не хватало уверенности настаивать на них. Одна из причин такой его нерешительности могла заключаться в том, что это открытие противоречило моделям атома, которые сформулировали ранее Дж. Дж. Томсон и лорд Кельвин. Кроме того, в его интерпретации открытия Марсдена возникали и некоторые физические противоречия, которые тоже нужно было объяснить. Резерфорд был искренне поражен результатами Марсдена. «Это было поистине самое невероятное событие, случившееся со мной за всю мою жизнь, – говорил он впоследствии. – Это было так же невероятно, как если бы мы выстрелили 15-дюймовым снарядом по листу папиросной бумаги, а снаряд прилетел бы обратно и попал в нас. Поразмыслив, я понял, что такое обратное рассеяние должно быть результатом единичного столкновения, а когда я выполнил расчеты, оказалось, что эффект такого порядка величины возможен только в одном случае – если рассматривать систему, в которой подавляющая часть массы атома сосредоточена в ядре чрезвычайно малого размера»[207]. Слово «столкновение» обманчиво. То, что представлял себе Резерфорд, выполняя расчеты и чертя схемы атомов на больших листах плотной бумаги[208], в точности соответствовало такой искривленной траектории, направленной сначала к компактному, массивному центральному телу, а затем от него, которую описывает комета в своем гравитационном па-де-де с Солнцем. Он изготовил специальную модель – тяжелый электромагнит, подвешенный наподобие маятника на десятиметровой проволоке и скользящий по поверхности другого электромагнита, установленного на столе[209]. Когда у двух соприкасающихся сторон магнитов были одинаковые полярности, что вызывало их взаимное отталкивание, маятник отклонялся по параболической траектории, зависящей от скорости и угла сближения, – точно так же, как отклонялись альфа-частицы. Резерфорду, как всегда, требовалось наглядное представление того, над чем он работал. Когда и последующие эксперименты подтвердили его теорию о существовании в атоме маленького массивного ядра, он наконец решился ее обнародовать. В качестве аудитории он выбрал старую манчестерскую организацию, Манчестерское литературно-философское общество – то есть «в основном людей с улицы, – говорит Джеймс Чедвик, еще студентом присутствовавший при этом историческом событии 7 марта 1911 года, – людей, интересовавшихся литературными и философскими идеями, в основном коммерсантов»[210]. Первым пунктом повестки дня было сообщение манчестерского импортера фруктов о редкой змее, которую он нашел в партии бананов с Ямайки. Змею он продемонстрировал[211]. Затем настала очередь Резерфорда. Сохранилась лишь аннотация его выступления, но Чедвик вспоминает, что он чувствовал, слушая его: «Для нас, совсем молодых, это выступление было совершенно потрясающим… Мы понимали, что эта идея явно истинна, что это и есть подлинная суть»[212]. Резерфорд нашел в атоме ядро. Пока что он не знал, как располагаются электроны атома. На собрании в Манчестере он говорил о том, что «…атом, по предположению, состоит из центрального ядра, окруженного зарядом противоположного знака, равномерно распределенным внутри сферы радиуса R…»[213][214]. Эта формулировка была достаточно обобщенной для расчетов, но не учитывала того существенного физического факта, что «противоположный электрический заряд» должен быть воплощен в электронах. Они должны каким-то образом располагаться вокруг ядра. Здесь мы встречаемся еще с одной загадкой. В 1903 году японский физик-теоретик Хантаро Нагаока предложил «сатурнианскую» модель атома, в которой вокруг «положительно заряженной частицы» вращаются плоские кольца электронов, подобные кольцам Сатурна[215]. Нагаока приспособил для своей модели математический аппарат, взятый из первой статьи Джеймса Клерка Максвелла, опубликованной в 1859 году и принесшей ему триумфальный успех; она называлась «Об устойчивости движения колец Сатурна». Все биографы Резерфорда согласны в том, что Резерфорд узнал о статье Нагаоки только 11 марта 1911 года – после манчестерского собрания, – когда он прочитал о ней в открытке, присланной другом-физиком: «Кэмпбелл сказал мне, что Нагаока когда-то пытался предположить наличие в атоме большого положительного центра, чтобы объяснить оптические эффекты»[216]. Затем он нашел эту статью в журнале Philosophical Magazine и добавил ее обсуждение на последнюю страницу своей развернутой статьи под названием «Рассеяние α- и β-частиц веществом и строение атома», которую отправил в тот же журнал в апреле. В этой статье он писал: «Интересно отметить, что Нагаока математически рассмотрел атом “Сатурния”, который, по его предположению, состоит из центральной притягивающей массы, окруженной кольцами вращающихся электронов»[217][218]. По-видимому, однако, Нагаока был у него незадолго до этого, так как 22 февраля 1911 года японский физик писал Резерфорду из Токио, благодаря его «за тот чрезвычайно теплый прием, который Вы оказали мне в Манчестере»[219]. Однако два физика, видимо, не обсуждали атомные модели; иначе Нагаока, вероятно, продолжил бы такое обсуждение в своем письме, а Резерфорд, бывший человеком абсолютно честным, несомненно упомянул бы об этом в своей статье. Одна из причин, по которым Резерфорд не знал о сатурнианской модели атома Нагаоки, состоит в том, что модель эта подверглась резкой критике и была отвергнута вскоре после того, как Нагаока ее предложил. Дело в том, что в ней был один крупный недостаток – тот самый теоретический дефект, который оставался и в модели атома, предложенной теперь Резерфордом[220]. Кольца Сатурна устойчивы, потому что сила, действующая между составляющими их обломочными частицами – гравитация, – создает притяжение. Однако сила, действующая между электронами сатурнианских электронных колец Нагаоки, то есть между отрицательными электрическими зарядами, – создает отталкивание. Из этого математически следует, что при наличии двух или более электронов, равномерно распределенных по орбите вращения вокруг ядра, они должны приобрести колебательные моды – неустойчивые состояния, – которые быстро приведут к распаду атома. То, что было справедливо для сатурнианского атома Нагаоки, теоретически должно было быть справедливо и для того атома, который Резерфорд обнаружил опытным путем. Если в атоме действуют механические законы классической физики, те Ньютоновы законы, которые управляют отношениями тел в планетарных системах, то модель Резерфорда работать не может. Но модель эта не была обычным теоретическим построением. Она была получена в результате физического эксперимента. И она явно работала. Атом оставался устойчивым сколь угодно долгое время и отражал альфа-частицы как артиллерийские снаряды. Кто-то должен был разрешить это противоречие между классической физикой и экспериментально изученным атомом Резерфорда. Для этого нужен был человек, отличный от Резерфорда: не экспериментатор, а теоретик, но теоретик, тесно связанный с реальностью. Нужно было, чтобы он обладал по меньшей мере не меньшей отвагой, чем Резерфорд, и такой же уверенностью в своей правоте. Нужно было, чтобы он был готов пройти сквозь зеркало механики в неизведанный немеханический мир, в котором происходящее на атомном уровне уже нельзя было моделировать при помощи аналогий с планетами и маятниками. И именно такой человек, как будто специально вызванный для этого дела, внезапно появился в Манчестере. 18 марта 1912 года Резерфорд объявил о его прибытии в письме к одному американскому другу: «Датчанин Бор ушел из Кембриджа и явился сюда, чтобы набраться опыта работы с радиоактивностью»[221]. Этим датчанином был физик-теоретик Нильс Хенрик Давид Бор. Ему было двадцать семь лет.
3 «TVI»[222]
«В комнату вошел некрепкий с виду юноша, – вспоминает манчестерские дни коллега Резерфорда по Университету Макгилла и его биограф А. С. Ив, – которого Резерфорд сразу же увел в свой кабинет. Миссис Резерфорд объяснила мне, что этот гость – молодой датчанин, и ее муж чрезвычайно высокого мнения о его работе. Это и неудивительно, ведь это был Нильс Бор!»[223] Это воспоминание кажется странным. Бор был выдающимся спортсменом. Его футбольные подвиги студенческих времен были широко известны в Дании. Он бегал на лыжах, ездил на велосипеде и ходил под парусом; он колол дрова; никто не мог обыграть его в пинг-понг; поднимаясь по лестнице, он то и дело перескакивал через ступеньки. Его внешность также была впечатляющей: он был высок по меркам своего поколения и имел, как говорит Ч. П. Сноу, «огромную куполообразную голову»[224], вытянутую, тяжелую челюсть и большие руки. В молодости он был тоньше, и копна его непослушных, зачесанных назад волос могла показаться человеку в возрасте Ива, который был на двенадцать лет старше Резерфорда, мальчишеской. Но Нильса Бора вряд ли можно было назвать «некрепким с виду». Помимо внешнего вида Бора, противоречащие остальным воспоминания Ива вызваны еще чем-то – вероятно, его манерой держаться, которая иногда могла быть неуверенной. Он был «гораздо сильнее и спортивнее, чем можно было предположить по его осторожному поведению, – подтверждает Сноу. – К тому же говорил он очень тихо, почти что шепотом». В течение всей своей жизни Бор говорил так тихо – и в то же время неутомимо, – что его собеседникам все время приходилось напрягать слух. Сноу называл его «оратором, который так же долго добирался до сути, как Генри Джеймс в последние годы своей жизни»[225], но его речь бывала чрезвычайно разной в публичных выступлениях и частных беседах, а также при исходном обсуждении какой-нибудь новой темы и при изложении предметов, уже хорошо освоенных. По словам Оскара Клейна, бывшего сперва учеником, а затем и сотрудником Бора, в публичных выступлениях «он старался самым тщательным образом как можно точнее формулировать все оттенки своих высказываний»[226]. Альберт Эйнштейн восхищался тем, как Бор «…излагает свое мнение так, точно постоянно движется на ощупь: он ничуть не похож на человека, знающего истину в последней инстанции»[227][228]. Но если в исследовательской фазе своих рассуждений Бор искал, продвигался на ощупь, то по мере освоения темы «его уверенность возрастала, и речь его становилась энергичной и наполнялась яркими образами»[229], – отмечал племянник Лизы Мейтнер, физик Отто Фриш. А в частных беседах, в кругу близких друзей, говорит Клейн, «он выражал свою точку зрения в решительных образах и сильных выражениях, как восхищенных, так и критических»[230]. Манеры Бора были такими же двойственными, как и его речь. Эйнштейн познакомился с Бором в Берлине весной 1920 года. «Нечасто в моей жизни, – писал он Бору впоследствии, – встречались люди, само присутствие которых доставляло мне такую радость, как ваше», а общему другу Паулю Эренфесту, австрийскому физику, работавшему в Лейдене, он признавался: «Я так же влюблен в него, как вы». Несмотря на такой энтузиазм, Эйнштейн не упустил возможности пристально понаблюдать за своим новым датским другом; его вердикт относительно Бора тридцатипятилетнего сходен с выводами, которые сделал Ив, когда тому было двадцать восемь: «Он похож на чрезвычайно чувствительного ребенка, который существует в нашем мире в состоянии, подобном своего рода трансу»[231]. При первой встрече с Бором – до того, как он начал говорить, – его удлиненное, тяжелое лицо показалось теоретику Абрахаму Пайсу чрезвычайно «мрачным», и его озадачило это мимолетное впечатление от человека, известного всем «своей неослабевающей оживленностью и теплой, солнечной улыбкой»[232]. Вклад Бора в физику XX века уступает разве что вкладу Эйнштейна. Ему суждено было стать беспрецедентно прозорливым физиком-политиком. Его самосознание – созданная тяжелым трудом индивидуальность и те эмоциональные ценности, которые были положены в ее основу, – было жизненно важным элементом его работы, в большей степени, чем это обычно свойственно ученым. В течение некоторого времени, в его юности, это самосознание было болезненно раздвоенным. Его отец, Кристиан Бор, был профессором физиологии в Копенгагенском университете. У Кристиана Бора характерная для Боров челюсть выступала из-под густых усов; у него было круглое лицо и не такой высокий лоб. Возможно, он тоже был спортсменом; во всяком случае, он увлекался спортом и участвовал – организационно и финансово – в создании «Академического футбольного клуба», в составе команды которого его сыновья становились потом чемпионами по футболу (младший брат Нильса Харальд участвовал в Олимпиаде 1908 года)[233]. Он придерживался прогрессивных политических взглядов и выступал за эмансипацию женщин; к религии он относился скептически, но формально соблюдал требуемые ритуалы – то есть был добропорядочным буржуазным интеллигентом. Кристиан Бор опубликовал свою первую научную работу в двадцать два года[234], получил диплом врача, а затем защитил докторскую диссертацию по физиологии и учился в Лейпциге у известного физиолога Карла Людвига. Он специализировался по вопросам дыхания и ввел в эту область исследований методику точных физических и химических экспериментов, что было редкостью для начала 1880-х годов. Вне стен лаборатории, как рассказывает один из его друзей, он был «пылким поклонником»[235] Гёте; его также интересовали более глобальные философские вопросы. Одной из наиболее острых дискуссий этих дней был спор между виталистами и механицистами, очередное проявление старой и никогда не прекращающейся битвы между теми, кто верит, в том числе исходя из религиозных убеждений, что мир имеет предназначение, и теми, кто считает, что он работает автоматическим и случайным образом или по повторяющимся и неизменным циклам. Немецкий химик, презрительно отзывавшийся в 1895 году о «чисто механическом мире естественно-научного материализма», в котором бабочка может снова превратиться в гусеницу, имел в виду тот же самый вопрос, восходящий еще ко временам Аристотеля. В той области, в которой был специалистом Кристиан Бор, эта проблема возникла в виде вопроса о том, были ли организмы и их подсистемы – их глаза, их легкие – созданы с заранее заданной целью, или же они возникли в соответствии со слепыми и бездушными законами химии и эволюции. Самым радикальным сторонником механистической точки зрения в биологии был немец Эрнст Генрих Геккель, утверждавший, что органическая и неорганическая материя – это одно и то же. Жизнь возникла самопроизвольно, утверждал Геккель; психологию следует считать разделом физиологии; не существует ни бессмертной души, ни свободы воли. Несмотря на свою приверженность к научным экспериментам, Кристиан Бор не принял точку зрения Геккеля; возможно, в этом сыграло свою роль его увлечение Гёте. После этого ему предстояла трудная работа по приведению своей практической деятельности в соответствие с этими взглядами. Отчасти поэтому, а отчасти из любви к обществу друзей он стал встречаться в кафе с философом Харальдом Гёффдингом – их дискуссии проходили после регулярных пятничных заседаний Датской королевской академии наук и литературы, членами которой были оба. Друживший с ними физик К. Кристиансен, бывший в детстве пастухом, вскоре привнес в эти споры третью точку зрения. Из кафе встречи переместились в дома участников, которые они посещали по очереди. Следующим членом группы стал филолог Вильгельм Томсен, который и завершил формирование этой великолепной четверки, состоявшей из физика, биолога, филолога и философа. Нильс и Харальд Боры провели все свое детство, слушая их беседы. Поскольку к делу женской эмансипации Кристиан Бор относился столь же серьезно, он вел подготовительные курсы для женщин, поступавших в университет. Одной из его учениц была дочь еврейского банкира Эллен Адлер. Она происходила из образованной, состоятельной и известной в Дании семьи; ее отец в разное время был депутатом обеих палат датского парламента. Кристиан Бор стал за ней ухаживать; в 1881 году они поженились. Как говорит один из друзей их сыновей, она отличалась «очаровательным характером»[236] и огромным альтруизмом. Судя по всему, после замужества она не афишировала своего иудаизма. Поступление в университет, которое она, видимо, планировала исходно, также не состоялось. Кристиан и Эллен Бор начали свою семейную жизнь в городском доме семьи Адлер, стоявшем прямо напротив дворца Кристианборг, в котором заседал парламент, на противоположной стороне широкой улицы. В этом приятном месте 7 октября 1885 года и родился Нильс Бор, их второй ребенок и первый сын. В 1886 году, когда его отец принял должность в университете, семья Бор переехала в дом, расположенный рядом с Хирургической академией, в которой находились физиологические лаборатории. Там вырос и Нильс, и его брат Харальд, бывший младше его на девятнадцать месяцев. Насколько Нильс Бор помнил, ему всегда нравилось мечтать о великих взаимосвязях[237]. Его отец любил говорить парадоксами[238]; возможно, из этой привычки отца и происходили мечты Нильса. В то же время мальчик отличался глубоко буквальным мышлением, и эта черта, которую часто считают недостатком, стала основополагающим достоинством Бора-физика. Гуляя с ним, когда ему было около трех лет, отец стал рассказывать ему об уравновешенном строении дерева – ствола, крупных и мелких ветвей, – как бы показывая сыну, как собрать дерево из его составных частей. Мальчик, склонный к буквальному мышлению, не был с ним согласен, так как видел в дереве цельный организм: иначе, сказал он, дерева не получилось бы. Бор рассказывал эту историю всю свою жизнь; в последний раз – всего за несколько дней до смерти, в 1962 году, когда ему было семьдесят восемь лет. «С самой ранней юности я мог высказываться по философским вопросам», – с гордостью заявил он. И благодаря этой способности, по его словам, «меня считали несколько необычным»[239]. Харальд Бор был мальчиком сообразительным, остроумным и энергичным, и сначала казалось, что он умнее брата. «Однако очень скоро, – говорит биограф Нильса Бора Стефан Розенталь, впоследствии работавший с ним, – Кристиан Бор сменил точку зрения на противоположную; он осознал огромные способности и особые таланты Нильса, а также широту его воображения»[240]. То, как отец сформулировал это открытие, могло бы показаться бессердечным сравнением, если бы братья так не любили друг друга. Нильс, сказал он, – «особый член семьи»[241]. В пятом классе, когда Нильс получил задание нарисовать дом, он выполнил замечательно зрелый рисунок, но сперва пересчитал все штакетины забора. Он любил работать по дереву и металлу; с самого раннего возраста он стал настоящим домашним мастером. «Даже в детстве [его] считали в семье мыслителем, – говорит один из его младших сотрудников, – и отец прислушивался к его мнению по самым фундаментальным вопросам»[242]. Почти не вызывает сомнений, что он научился письму с большим трудом, и ему всегда было трудно писать. Мать верно служила ему секретарем: он диктовал ей свою домашнюю работу, а она ее записывала[243]. В детстве Нильс и Харальд были близки, как близнецы. «Поверх всего остального, как бы лейтмотивом, – отмечает Розенталь, – проходит тема той неразлучности, которой отличались отношения между братьями»[244]. Они говорили и думали «дуэтом»[245], вспоминает один из их друзей. «В течение всей моей юности, – вспоминал сам Бор, – брат играл очень важную роль в моей жизни… Брат был для меня очень важен. Он был умнее меня во всех отношениях»[246]. В свою очередь, Харальд всегда и всем говорил[247] – и, по-видимому, искренне, – что сам он был обычным человеком, а вот брат его – человеком выдающимся. Речь неуклюжа, письмо обедняет. Первая карта мира ребенка, не различающая между субъектом и объектом, сосуществующая с тем миром, который она отображает, пока пробуждающееся сознание не отделит их друг от друга, – это не язык, а поверхность собственного тела человека. Нильс Бор любил показывать, как палка, используемая в качестве щупа, например трость слепого, становится продолжением руки[248]. Кажется, что ощущения перемещаются на ее конец, говорил он. Он часто повторял это наблюдение – казавшееся чудесным учившимся у него физикам, – как и историю про мальчика и дерево, потому что для него она была наполнена эмоциональным смыслом. По-видимому, он был ребенком, глубоко чувствующим мир. Этот дар появляется еще до умения говорить. Его отец со своим гётевским стремлением к осмысленности и цельности – естественному единству, всеохватному утешению религией без древних формальностей – чувствовал это особенно ясно. Его чрезмерные ожидания обременяли мальчика. Религиозные разногласия возникли быстро. Нильс «буквально верил в то, что узнавал в школе на уроках религии, – говорит Оскар Клейн. – В течение долгого времени чувствительного мальчика огорчало отсутствие веры у его родителей»[249]. Когда Бору было двадцать семь, он вспоминал о том огорчении, которое доставляло ему предательство родителей, в рождественском письме невесте, посланном из Кембриджа: «Я вижу, как маленький мальчик идет в церковь по заснеженной улице. Это единственный день в году, когда отец брал его в церковь. Зачем? Затем, чтобы ребенок чувствовал себя таким же, как остальные дети. Отец никогда не говорил мальчику ни единого слова относительно веры, и маленький мальчик верил всем своим сердцем…»[250][251] Затруднения с письмом были проблемой более зловещей. Домашним ее решением стала секретарская работа матери. Бор не составлял текст заранее, чтобы потом надиктовать его своему помощнику. Он сочинял его на месте, причем с большим трудом. Именно отсюда взялось бормотание, напоминавшее Ч. П. Сноу о позднем Генри Джеймсе. Уже взрослым Бор многократно составлял и переписывал черновики даже личных писем[252]. Его многочисленные переписывания научных статей – сначала в черновике, а потом, еще несколько раз, в гранках – вошли в легенду. Однажды, после его непрерывных просьб о несравненной критической помощи жившего в Цюрихе австрийского теоретика Вольфганга Паули, хорошо знавшего Бора, Паули осторожно ответил: «Если последнюю редакцию уже отослали, я приеду»[253]. Сначала Бор сотрудничал со своей матерью и Харальдом, затем – с женой, а потом – с продолжавшейся всю жизнь чередой молодых физиков. Они чрезвычайно высоко ценили возможность работать вместе с Бором, но это сотрудничество бывало делом непростым. Бор требовал от них не только внимания, но и активной вовлеченности, интеллектуальной и эмоциональной: он хотел убедить сотрудников в своей правоте. Пока это ему не удавалось, он сам сомневался в своих выводах или по меньшей мере в их словесной формулировке. За трудностями с письмом скрывалась другая, более масштабная проблема. Она проявлялась в виде нервозности, которая, если бы не необычайная поддержка матери и брата, могла бы стать непосильной. В течение некоторого времени она такой и была[254]. Возможно, вначале она возникла из религиозных сомнений, которые, по словам Клейна, появились у Нильса «в юности». Бор сомневался так же, как верил, «с необычайной решимостью»[255]. К осени 1903 года, когда в возрасте восемнадцати лет он поступил в Копенгагенский университет, сомнения разрослись, и его опьяняли мысли об ужасающих бесконечностях. У Бора был любимый роман. Его автор, Пауль Мартин Мёллер, впервые обнародовал свою книгу «Приключения датского студента» (En Dansk Students Eventyr), прочитав ее в 1824 году на собрании студенческого объединения Копенгагенского университета. Напечатана она была уже после его смерти. Книга эта была короткой, остроумной и обманчиво легкомысленной. В 1960 году, в важной лекции под названием «О единстве человеческих знаний», Бор назвал книгу Мёллера «неоконченным романом, который в [Дании] до сих пор с удовольствием читает как старшее, так и младшее поколение»[256]. Он дает нам, сказал он, «замечательно живое и глубокомысленное описание взаимодействия между разными аспектами [человеческого] состояния»[257]. После Первой мировой войны датское правительство помогло Бору организовать в Копенгагене свой собственный институт. Учиться в нем приезжали самые перспективные молодые физики со всего мира. «Все, кому приходилось тесно общаться с Бором в институте, – пишет его сотрудник Леон Розенфельд, – как только они в достаточной степени овладевали датским языком, знакомились с этой книжкой: это было частью процедуры их посвящения»[258]. Что же такого волшебного заключалось в этой маленькой книжке? Она была первым датским романом из современной жизни: в ней описывалась студенческая жизнь и в особенности пространные беседы между двумя кузенами-студентами. Один из них был «лиценциатом», то есть соискателем ученой степени, а второй – «филистером». Филистер, говорит Бор, – это знакомый нам тип, «отличающийся трезвой расторопностью в практических делах»[259]. Лиценциат, фигура более экзотическая, «склонен к отвлеченным философским рассуждениям, которые вредят его существованию в обществе». Бор цитирует одно из «философских рассуждений» лиценциата:[Я начинаю] думать о своих собственных мыслях относительно ситуации, в которой я нахожусь. Я даже думаю, что думаю о ней, и разбиваю себя на бесконечную обращенную назад последовательность «я», которые размышляют друг о друге. Я не знаю, на каком из «я» остановиться, какое из них считать подлинным, потому что, как только я останавливаюсь на одном из них, всегда есть еще одно «я», которое на нем останавливается. Я запутываюсь, у меня кружится голова, как будто я заглядываю в бездонную пропасть[260].«Бор постоянно возвращался к вопросу о разных значениях слова “я”, – вспоминал Роберт Оппенгеймер, – “я”, которое действует, “я”, которое мыслит, “я”, которое изучает само себя»[261]. Другие состояния, беспокоящие лиценциата из романа Мёллера, вполне могли быть взяты из клинического описания состояний, беспокоивших юного Нильса Бора. Например, такой недостаток:
Несомненно, мне и раньше доводилось видеть, как излагаются мысли на бумаге. Но с тех пор как я явственно осознал противоречие, заключенное в подобном действии, я почувствовал, что полностью потерял способность написать хоть какую-нибудь фразу. И хотя опыт подсказывает мне, что так поступали множество раз, я мучаюсь, пытаясь разрешить неразрешимую загадку: как человек может думать, говорить или писать. Пойми, друг мой, движение предполагает направление. Разум не может развиваться, не продвигаясь вдоль определенной линии. Но прежде чем начать движение вдоль этой линии, разум должен осмыслить это движение. Другими словами, человек продумывает любую мысль прежде, чем начнет думать. И любая мысль, кажущаяся плодом данного момента, содержит в себе вечность. Это сводит меня с ума[262][263].Или взять следующую жалобу, касающуюся фрагментации личности и ее умножающейся двойственности, которую Бор часто цитировал в следующие годы:
Таким образом, человек часто разделяется на две личности, одна из которых пытается обмануть другую, в то время как третья личность, которая на самом деле тождественна первым двум, поражается этой неразберихе. Коротко говоря, мышление становится драмой и беззвучно разыгрывает само с собой и перед самим собой запутаннейшие интриги, причем зритель снова и снова становится актером[264].«Бор привлекал внимание к тем сценам, – отмечает Розенфельд, – в которых лиценциат описывает, как он теряет счет своим разным “я” или [рассуждает] о невозможности сформулировать мысль, и, исходя из этих фантастических парадоксов, подводил своего собеседника… к самой сути проблемы однозначной передачи опыта, серьезность которой он таким образом ярко иллюстрировал»[265]. Розенфельд боготворил Бора; он то ли не осознавал, то ли предпочитал не упоминать о том, что для самого Бора трудности лиценциата были чем-то большим, чем просто «фантастические парадоксы». Рациоцинация[266] – именно так называется то, чем занимается тут лиценциат и чем занимался в юности сам Бор, – это механизм защиты от тревожности. Спирали мыслей, панические и навязчивые. Сомнения удваиваются снова и снова, парализуя действия, опустошая мир. Этот механизм обладает бесконечной регрессивностью, так как, как только его жертва осваивает этот прием, она может сомневаться в чем угодно, даже в самом сомнении. Это явление может казаться интересным с философской точки зрения, но в практическом отношении рациоцинация заводит в тупик. Если работа не может быть завершена, то ее качество невозможно оценить. Проблема в том, что такое тупиковое состояние отдаляет развязку и добавляет к бремени, лежащем на человеке, чувство вины за эту отсрочку. Тревожность все возрастает; механизм все ускоряет свой полет по спирали; личности кажется, что она вот-вот распадется на части; умножающееся «я» делает ощущение надвигающегося распада все более драматичным. На этом этапе проявляются ужасные картины безумия; в течение всей жизни Бора в его высказываниях, устных и письменных, то и дело возникали образы «бездонной пропасти» лиценциата[267]. Мы «подвешены в языке»[268], – любил говорить Бор, имея в виду эту бездну; и одной из его излюбленных цитат были следующие два стиха из Шиллера[269]:
Nur die Fülle führt zur Klarheit,
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.
Лишь цельность к ясности ведет,
И в безднах истина живет[270].
29 сентября 1911 г. Элтисли-авеню 10, Ньюхэм, КембриджНильс Бор был в восторге от Кембриджа. Благодаря англофилии отца ему легко было полюбить английскую жизнь; в университете же поддерживались традиции Ньютона и Максвелла и была великая Кавендишская лаборатория, славная столь многими физическими открытиями. Бор обнаружил, что его школьный английский далек от совершенства, и взялся за чтение «Дэвида Копперфильда», вооружившись внушительным новым словарем, в котором он смотрел все слова, в которых не был уверен. Он обнаружил, что в лаборатории было слишком много народу и слишком мало средств. С другой стороны, ему было забавно ходить в мантии и академической шапочке (после того, как его официально приняли в докторантуру Тринити-колледжа)«под страхом огромного штрафа», наблюдать профессорский стол колледжа, «за которым едят столько и таких первоклассных блюд, что совершенно невероятно и непонятно, как они с этим справляются»[295], гулять «по часу перед ужином по прекраснейшим лугам вдоль реки, с изгородями, усеянными красными ягодами, и одинокими ивами, клонящимися на ветру, – вообрази себе все это под великолепнейшим осенним небом со стремительно несущимися облаками и неистовым ветром»[296]. Он записался в футбольную команду; встречался с физиологами, учившимися у его отца; посещал лекции по физике; работал над экспериментами, которые поручал ему Томсон; общался на банкетах с английскими дамами, «абсолютно гениально умеющими вызывать на откровенность»[297]. Однако Томсон так и не собрался прочитать его диссертацию. Собственно говоря, их первая встреча была вовсе не столь успешной. Новый датский ученик не просто рассказал Томсону о своих идеях; он еще и указал ему на ошибки, которые он обнаружил в работах самого Томсона по теории электрона. «Интересно, – писал Бор Маргрете вскоре после этого, – что скажет профессор по поводу моих замечаний к его статье»[298]. Немного спустя он писал: «Не могу дождаться момента, когда Томсон наконец выскажется. Он – великий человек. Надеюсь, мои глупые вопросы не рассердили его»[299][300]. Мы не знаем, рассердился Томсон или нет. В это время электроны уже не очень его интересовали. Он переключил свое внимание на положительно заряженные анодные лучи – эксперимент, в котором он предложил участвовать Бору, касался именно их, и Бор считал его совершенно бесперспективным, – и в любом случае не любил теоретических обсуждений. «Чтобы по-настоящему узнать англичанина, требуется полгода, – сказал Бор в своем последнем интервью. – В Англии принято быть вежливым и так далее, но на самом деле они никем не интересуются… По воскресеньям я ходил на ужины в Тринити-колледж… Я сидел там, и в течение многих воскресений со мной никто ни разу не заговорил. Но потом они увидели, что я так же не стремлюсь разговаривать с ними, как и они со мной. И тогда мы подружились, понимаете, и все изменилось»[301]. Тут речь идет об общем представлении; возможно, безразличие Томсона было его первым частным проявлением. А потом в Кембридже появился Резерфорд. Он «приехал из Манчестера, чтобы выступить на ежегодном Кавендишском обеде, – вспоминает Бор. – Хотя в этот раз мне не удалось познакомиться с Резерфордом, на меня произвели глубокое впечатление его обаяние и энергия – качества, с помощью которых ему удавалось достигать почти невероятных вещей, где бы он ни работал. Обед происходил в чрезвычайно непринужденной атмосфере, что дало удобный случай коллегам Резерфорда напомнить некоторые из многочисленных анекдотов, уже тогда связанных с его именем»[302][303]. Резерфорд тепло говорил о недавней работе физика Ч. Т. Р. Вильсона, изобретателя туманной камеры (в которой можно наблюдать траектории заряженных частиц, проявляющиеся в виде линий водяных капель в перенасыщенном паре), с которым он дружил во время учебы в Кембридже. Как говорит Бор, Вильсон «только что» сфотографировал в своей камере альфа-частицы, рассеивающиеся в результате взаимодействия с ядрами, – то самое явление, которое всего за несколько месяцев до этого «привело [Резерфорда] к открытию, с которого началась новая эпоха, – открытию атомного ядра»[304][305]. Бора уже занимали вопросы, которые он вскоре после этого связал с задачей о ядре и теоретически неустойчивых электронах[306], но самое большое впечатление на этом ежегодном обеде произвело на него то, насколько Резерфорд был готов отбросить церемонность. Вспоминая этот период своей жизни много лет спустя, он особенно выделял среди достоинств Резерфорда следующее: «…у него все же хватало терпения выслушивать каждого из этих молодых людей, если он ощущал у них наличие каких-то идей, какими бы скромными с его собственной точки зрения они ни казались»[307][308]. В отличие, надо думать, от Дж. Дж. Томсона, каковы бы ни были другие достоинства последнего. Вскоре после этого обеда Бор приехал в Манчестер, чтобы встретиться там с «одним из коллег моего недавно умершего отца, бывшим также близким другом Резерфорда»[309]. Это близкий друг свел их. Резерфорд посмотрел на молодого датчанина, и он ему понравился, несмотря на его обычную нелюбовь к теоретикам. Впоследствии кто-то спросил его об этом противоречии. «Бор не такой, – прогремел Резерфорд, пытаясь замаскировать шуткой свою привязанность. – Он же футболист!»[310] Бор отличался от прочих и в другом отношении; он был гораздо талантливее всех остальных многочисленных учеников Резерфорда – а Резерфорд воспитал за свою жизнь целых одиннадцать нобелевских лауреатов[311], и этот его рекорд не побил никто. Бор отложил решение о выборе между Кембриджем и Манчестером до обсуждения всей этой ситуации с Харальдом, который специально для этого приехал к нему в Кембридж в январе 1912 года. Затем Бор отправил Резерфорду пылкую просьбу предоставить ему возможность учиться в Манчестере, о которой они говорили в декабре. Резерфорд посоветовал ему не бросать Кембридж слишком быстро – Манчестер, сказал он, никуда от него не денется[312], – и Бор предложил приехать к началу весеннего семестра, который начинался в конце марта. Резерфорд согласился с радостью. Бору казалось, что в Кембридже его способности тратятся впустую. Он хотел заняться чем-то существенным. Первые шесть недель в Манчестере он провел, изучая «вводный курс в экспериментальные исследования радиоактивности»[313]; среди его наставников были Гейгер и Марсден. Продолжал он и свои собственные исследования теории электрона. В это время началась его сохранившаяся на всю жизнь дружба с молодым венгерским аристократом Дьёрдем де Хевеши, радиохимиком, человеком с вытянутым, чувственным лицом, самой заметной чертой которого был огромный нос. Отец де Хевеши был придворным советником, мать – баронессой; в детстве он охотился на куропаток в собственном охотничьем заказнике императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа, граничащем с имением его деда. Теперь же он работал над решением задачи, которую поставил ему однажды Резерфорд: ему нужно было отделить продукты радиоактивного распада от веществ, породивших их. На основе этой работы в течение нескольких последующих десятилетий он развил науку применения радиоактивных индикаторов в медицинских и биологических исследованиях, ставшую очередным примером ценных всходов, которые дали небрежные, но плодовитые посевы Резерфорда. От де Хевеши Бор и узнал о радиохимии[314]. Он начал находить в ней связи со своей работой по электронной теории. Посетившее его затем интуитивное озарение было поразительным. В течение нескольких недель он понял, что, хотя радиоактивные свойства порождаются атомным ядром, свойства химические зависят в первую очередь от числа и распределения электронов. Он понял – и эта безумная идея оказалась справедливой, – что, поскольку электроны определяют химические свойства, а суммарный положительный заряд ядра определяет число электронов, то положение элемента в периодической системе в точности совпадает с величиной заряда ядра (или «атомным номером»): водород стоит на первом месте и имеет заряд ядра, равный 1, за ним следует гелий с зарядом ядра, равным 2, и так далее, вплоть до самого урана с номером 92. Де Хевеши обратил его внимание на то, что число известных радиоактивных элементов уже значительно превосходило число незаполненных клеток периодической таблицы, и Бор интуитивно пришел еще к одному заключению. Содди уже отмечал, что радиоактивные элементы в большинстве своем представляют собой не новые элементы, а лишь физически отличные формы элементов природных (вскоре после этого он дал им их современное имя, назвав их изотопами). Бор понял, что такие радиоэлементы должны иметь тот же атомный номер, что и природные элементы с теми же химическими свойствами. Это позволило ему вывести черновую версию так называемого закона радиоактивных смещений: при превращении элемента в результате радиоактивного распада он смещается по периодической таблице на два положения влево, если испускает альфа-частицу (ядро гелия, атома с номером 2), и на одно положение вправо, если испускает бета-излучение (высокоэнергетический электрон, потеря которого приводит к увеличению положительного заряда ядра).
О Харальд! У меня все прекрасно. Я только что разговаривал с Дж. Дж. Томсоном и рассказал ему, насколько смог, о своих идеях относительно радиации, магнетизма и т. д. Если бы ты только знал, что́ значил для меня разговор с таким человеком. Он был со мной чрезвычайно любезен, и мы обсудили очень многое; мне кажется, что он нашел в том, что я говорил, нечто разумное. Теперь он собирается прочитать [мою диссертацию] и пригласил меня на воскресный ужин в Тринити-колледж; потом он поговорит со мной о ней. Можешь себе представить, как я счастлив… У меня теперь есть собственная маленькая квартира. Она расположена на краю города и прекрасна во всех отношениях. У меня две комнаты, и я ем в полном одиночестве у себя дома. Здесь очень мило; сейчас я пишу тебе перед своим собственным маленьким камином, в котором пылает, потрескивая, огонь[294].
 Периодическая система химических элементов. Семейство лантаноидов, начинающееся с лантана (57), и семейство актиноидов, начинающееся с актиния (89) и включающее в себя торий (90) и уран (92), обладают сходными химическими свойствами
Периодическая система химических элементов. Семейство лантаноидов, начинающееся с лантана (57), и семейство актиноидов, начинающееся с актиния (89) и включающее в себя торий (90) и уран (92), обладают сходными химическими свойствами
Прочная привязка этих начальных, приблизительных озарений к теории эксперименту потребовала бы многих лет работы других ученых. Бор представил их Резерфорду. К его удивлению, первооткрыватель атомного ядра отнесся к его собственным открытиям настороженно. «Резерфорд… считал, что [накопленная до тех пор] скудная информация об атомных ядрах не настолько точна, чтобы можно было делать подобные выводы, – вспоминал Бор. – А я сказал ему, что уверен, что это станет окончательным доказательством справедливости его модели атома»[315]. Если он и не убедил Резерфорда, то по меньшей мере произвел на него сильное впечатление. Однажды, когда де Хевеши задал Резерфорду какой-то вопрос о радиоактивности, тот радостно ответил: «Спросите Бора!»[316] Таким образом, когда Бор снова пришел к нему в середине июня, Резерфорд был готов к неожиданностям. Бор описал, что было у него на уме, в письме, которое он послал Харальду 19 июня, после этого разговора:
Мне кажется, что я, возможно, открыл кое-что относительно строения атомов. Об этом ни в коем случае нельзя никому рассказывать, иначе я точно не смог бы так быстро написать тебе про это. Если я прав, эта идея должна оказаться не указанием на одну из возможностей… а, может быть, маленьким элементом реальности… Как ты понимаешь, еще может выясниться, что я не прав, потому что идея еще не до конца разработана (хотя я так не думаю); кроме того, Резерфорд, по-моему, тоже не считает ее совершенно безумной. Он такой человек, который никогда не скажет, что он полностью убежден в чем-то, что еще не вполне проработано. Можешь себе представить, как мне хочется поскорее завершить эту работу[317].Тогда Бор увидел первый проблеск идеи о том, как можно стабилизировать электроны, вращающиеся вокруг Резерфордова ядра в таком неустойчивом состоянии. Резерфорд отослал его прорабатывать эту идею более подробно. Время поджимало: на 1 августа в Копенгагене была назначена свадьба Бора с Маргрете Норланд. 17 июля он написал Харальду, что «дело движется довольно хорошо; по-моему, я кое-что обнаружил; но доведение этих находок до ума, несомненно, займет гораздо больше времени, чем мне по наивности казалось вначале. Я надеюсь подготовить перед отъездом небольшую статью, которую можно будет показать Резерфорду, так что я очень-очень занят; невероятная жара, которая стоит в Манчестере, не очень-то располагает меня к усердию. Как мне не терпится поговорить с тобой!»[318] В следующую среду, 22 июля, он встретился с Резерфордом, который снова подбодрил его, и планировал встретиться с Харальдом по дороге домой[319]. Бор женился, и его безмятежный брак с этой сильной, умной и красивой женщиной продлился всю жизнь. В течение осеннего семестра он преподавал в Копенгагенском университете. Новая модель атома, над разработкой которой он бился, давалась по-прежнему трудно. 4 ноября он написал Резерфорду, что надеется, что «сможет закончить статью в течение нескольких недель»[320]. Несколько недель прошло; поскольку статья так и не была закончена, он договорился об освобождении от преподавательской работы в университете и уехал вместе с Маргрете за город. Старая система снова сработала: он написал «очень длинную статью обо всем этом»[321]. Затем ему в голову пришла новая важная идея, и он разбил свою длинную статью на три заново переписанные части. Первая часть статьи под гордым и отважным названием «О строении атомов и молекул» была отправлена Резерфорду 6 марта 1913 года, вторая и третья части были закончены и опубликованы до конца того же года, – и эта работа изменила направление развития физики XX века. Именно за нее Бор получил Нобелевскую премию по физике за 1922 год. Еще когда Бор работал над своей диссертацией, он решил, что некоторые из явлений, которые он исследовал, нельзя объяснить механическими законами ньютоновской физики. «Следует предположить, что в природе существуют силы, совершенно отличные от обычных механических»[322], – писал он в то время. Он знал, где именно следует искать эти необычные силы: он обратился к работам Макса Планка и Альберта Эйнштейна. Планк был тем немецким теоретиком, с которым Лео Сцилард впоследствии познакомится в Берлине в 1921 году; он родился в 1858 году и преподавал в Берлине с 1889-го. В 1900 году он предложил революционную идею, которая объясняла одну неразрешимую до того момента проблему классической физики, так называемую ультрафиолетовую катастрофу. В соответствии с классической теорией внутри нагретой полости (например, доменной печи) должно содержаться бесконечное количество света (энергии, излучения). Это связано с тем, что классическая теория, рассматривающая только непрерывные процессы, предсказывает, что частицы, заключенные внутри нагретых стенок полости, вибрирующих с выделением света, должны вибрировать в бесконечном спектре частот. Очевидно, это предсказание не соответствовало истине. Но что же мешает энергии, содержащейся внутри полости, неограниченно увеличиваться в направлении глубокой ультрафиолетовой части спектра? Планк начал работать над этой задачей в 1897 году и интенсивно трудился над нею в течение трех лет. Успех пришел к нему в виде возникшего в последнюю минуту озарения, о котором он сообщил 19 октября 1900 года на заседании Берлинского физического общества. Тем же вечером друзья Планка сравнили его новую формулу с экспериментально полученными данными. На следующее утро они сообщили ему об их точном соответствии. «Более поздние измерения все снова и снова подтверждали формулу для излучения, и притом тем точнее, чем к более тонким методам измерений переходили, – гордо писал Планк в 1947 году, в конце своей долгой жизни»[323][324]. Планк разрешил проблему излучения, предположив, что колеблющиеся частицы могут излучать лишь на некоторых определенных энергиях. Разрешенные энергии определяются новым числом – «…необходимо было ввести некоторую новую универсальную постоянную, которую я обозначил через h, и так как она имела размерность произведения (энергия × время), то я назвал ее элементарным квантом действия»[325][326]. Слово «квант» происходит от формы среднего рода (quantum) латинского слова quantus, означающего «сколько». Могут возникать только такие ограниченные и конечные энергии, которые равны целочисленному кратному hν: частоты ν, умноженной на постоянную Планка h раз. По расчетам Планка, величина h оказалась очень малой и близкой к современному значению, равному 6,63 · 10–27 эрг · с. Универсальная константа h вскоре получила свое современное название: ее стали называть постоянной Планка. Планку, который был консерватором до мозга костей, не хотелось исследовать радикальные следствия из найденной им формулы излучения. Это сделал другой человек – Альберт Эйнштейн. В опубликованной в 1905 году статье, которая впоследствии принесла ему Нобелевскую премию, Эйнштейн применил идею Планка строго определенных дискретных порций энергии к проблеме фотоэлектрического эффекта. Свет, падающий на некоторые металлы, выбивает из них электроны; подобный эффект используется в современных солнечных батареях, питающих космические аппараты. Но энергия электронов, выбитых из металла, не зависит от яркости света, как казалось бы логичным предположить. Вместо этого она зависит от его цвета – то есть от его частоты. Эйнштейн разглядел в этом странном факте квантовые проявления. Он предложил еретическую гипотезу о том, что свет, распространяющийся, как показывали в течение многих лет точные научные опыты, в виде волн, на самом деле распространяется в виде маленьких отдельных пакетов – частиц, – которые он назвал «квантами энергии». Такие фотоны (как мы их теперь называем), писал он, имеют дискретную энергию hν и при соударении с поверхностью металла передают бо́льшую часть этой энергии электронам. Таким образом, более яркий свет высвобождает большее число электронов, но не электроны более высокой энергии; энергия испускаемых электронов зависит от hν, то есть от частоты света. Таким образом, Эйнштейн развил квантовую идею Планка, превратив ее из простого, хотя и удобного, вычислительного приема в выражение возможного физического закона[327]. Такое развитие знания позволило Бору взяться за проблему механической неустойчивости модели атома Резерфорда. В июле, в период подготовки «небольшой статьи, которую можно будет показать Резерфорду», у него уже появилась основная идея. Она заключалась в следующем: поскольку классическая механика предсказывает, что атом, по Резерфорду, с маленьким, массивным центральным ядром, окруженным электронами, должен быть неустойчивым, а на самом деле атомы представляют собой одни из самых устойчивых систем в мире, значит, классическая механика не способна описывать такие системы и должна уступить место квантовому подходу. Планк предложил квантовые принципы, чтобы спасти законы термодинамики; Эйнштейн распространил квантовые идеи на свет; Бор предлагал теперь ввести квантовые принципы в самый атом. В течение всей осени и начала зимы, вернувшись в Данию, Бор разбирался со следствиями из этой идеи. Трудность с атомом Резерфорда заключалась в том, что ничто в его строении не обеспечивало его устойчивости. Если речь шла об атоме с несколькими электронами, он должен был разваливаться на части. Даже в случае атома водорода всего с одним (механически устойчивым) электроном классическая теория предсказывала, что такой электрон должен испускать свет при изменении направления орбитального движения вокруг ядра и, теряя таким образом энергию, смещаться по спиральной траектории к ядру и в конце концов упасть на него. С точки зрения ньютоновской механики атом Резерфорда – миниатюрная солнечная система – должен был быть либо невозможно большим, либо невозможно маленьким. Поэтому Бор предположил, что в атоме должно существовать то, что он назвал «стационарными состояниями»: орбиты, на которых электроны могут находиться без нарушений устойчивости, без испускания света и без падения на ядро по спиральной траектории. Он произвел расчеты по этой модели и обнаружил, что их результаты отлично согласуются с самыми разными экспериментальными значениями. Теперь у него была по меньшей мере правдоподобная модель, которая, в частности, объясняла некоторые химические явления. Но она явно была произвольной; не было никаких доказательств того, что она более точно отражает реальное строение атома, чем другие полезные модели – например «пудинг с изюмом» Дж. Дж. Томсона. Помощь пришла с неожиданной стороны. Дж. У. Николсон, профессор математики в Королевском колледже Лондона, которого Бор считал глупцом, опубликовал несколько статей, в которых для объяснения необычного спектра солнечной короны предлагалась квантованная сатурнианская модель атома. Статьи эти были опубликованы в астрономическом журнале в июне; Бор увидел их только в декабре. Он быстро нашел недостатки модели Николсона, но в то же время почувствовал, что другие исследователи идут за ним по пятам, – а также отметил, что Николсон углубился в дебри спектральных линий. Ориентируясь на химию, обмениваясь идеями с Дьёрдем де Хевеши, Бор не думал о том, что доказательства в поддержку его модели атома можно искать и в спектроскопии. «Спектры были очень сложной задачей, – сказал он в своем последнем интервью. – …Они казались великолепными, но в них не было видно возможностей для развития. Точно так же, если взять крыло бабочки, на нем, конечно, можно увидеть замечательно регулярные узоры, цвета и так далее, но никому не придет в голову, что по окраске крыла бабочки можно понять основы биологии»[328]. Воспользовавшись подсказкой Николсона, Бор обратил теперь свое внимание на крылья спектральной бабочки. В 1912 году спектроскопия была хорошо развитой областью. Первым эффективно исследовал ее шотландский физик XVIII века Томас Мелвилл. Он смешивал химические соли со спиртом, поджигал эти смеси и рассматривал полученный свет через призму. Разные химические элементы давали пятна разных цветов. Отсюда возникла идея использования спектров для химического анализа, для идентификации неизвестных веществ. Призматический спектроскоп, изобретенный в 1859 году, был важным научным достижением. В нем использовалась узкая щель, установленная перед призмой, чтобы превратить световые пятна в узкие полоски сравнимой ширины; эти полоски можно было отобразить на линейке с делениями (а впоследствии – на ленте фотопленки), чтобы измерить расстояния между ними и вычислить длины волн света. Такие характеристические наборы линий стали называть линейчатыми спектрами. У каждого элемента имеется свой уникальный линейчатый спектр. Гелий был открыт в виде серии необычных линий в хромосфере Солнца в 1868 году, за двадцать три года до того, как его обнаружили в составе урановой руды на Земле. Линейчатые спектры оказались предметом полезным. Однако никто не понимал, что́ порождает эти линии. В лучшем случае математикам и спектроскопистам, любившим заниматься численным выражением длин волн, удавалось найти в наборах спектральных линий красивые и гармоничные закономерности. В 1885 году швейцарский математик и физик XIX века Иоганн Бальмер нашел одну из самых основных формул – формулу для вычисления длин волн спектральных линий водорода. Эти линии, образующие так называемую серию Бальмера, выглядят следующим образом:
 Серия Бальмера
Серия Бальмера
Не обязательно разбираться в математике, чтобы оценить простоту выведенной Бальмером формулы, которая предсказывает положение любой линии в спектре с точностью до одной тысячной. В этой формуле содержится всего одно произвольное число:
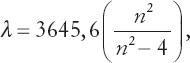
где греческая буква λ (лямбда) обозначает длину волны линии, а n принимает для разных линий значения 3, 4, 5 и так далее. При помощи этой формулы Бальмер смог предсказать ожидаемые длины волн линий еще не изученных участков спектра водорода. Впоследствии такие линии были найдены именно там, где они должны были быть по его расчетам. Шведский спектроскопист Йоханнес Ридберг превзошел достижение Бальмера, опубликовав в 1890 году общую формулу, справедливую для огромного числа разных линейчатых спектров. Формула Бальмера стала частным случаем более общей формулы Ридберга, в основе которой лежало число, названное постоянной Ридберга. Это число, впоследствии измеренное различными способами и ставшее одной из наиболее точно известных фундаментальных постоянных, по современным измерениям равно 10973731,568508 м–1 [329]. Эти формулы и числа могли быть известны Бору из университетского курса физики, особенно с учетом того, что Кристиансен был поклонником Ридберга и досконально изучил его работы. Но спектроскопия была далека от области интересов Бора, и можно предположить, что он о них просто забыл. Он нашел своего старого друга и одноклассника Ханса Хансена, физика и спектроскописта, который только что вернулся из Гёттингена. Вместе с Хансеном они просмотрели материалы по регулярности линейных спектров. Бор нашел соответствующие числа. «Как только я увидел формулу Бальмера, – говорил он впоследствии, – мне всё немедленно стало ясно»[330]. А именно ему немедленно стала ясна связь между его электронами на орбитах и линиями светового спектра. Бор предположил, что электрон, связанный с ядром, в нормальном состоянии занимает устойчивую базовую орбиту, которую называют основным состоянием. При поступлении в атом дополнительной энергии – например при нагревании – электрон перескакивает на более высокую орбиту, то есть в одно из более высокоэнергетических состояний, и оказывается на большем удалении от ядра. При дальнейшем поступлении энергии электрон продолжает перескакивать на все более высокие орбиты. Если поступление энергии прекращается – если оставить атом в покое, – электроны начинают перескакивать обратно в свои основные состояния:

При каждом таком скачке электрон испускает фотон с соответствующей энергией. Скачки – а следовательно, и величины энергии фотонов – задаются постоянной Планка. Вычитание энергии W2 более низкого устойчивого состояния из энергии W1 более высокого устойчивого состояния дает величину, в точности равную энергии света, то есть hν. Из этого изящного упрощения, W1 – W2 = hν, Бору удалось вывести серию Бальмера. Оказалось, что линии серии Бальмера точно соответствуют энергии фотонов, которые электрон водорода испускает при скачках с одной орбиты на другую в направлении основного состояния. После чего, совершенно поразительным образом, из несложной формулы

(где m – масса электрона, e – его электрический заряд, а h – постоянная Планка, то есть только фундаментальные значения, а не произвольные числа, выдуманные Бором) Бор получил постоянную Ридберга, причем вычисленное значение совпало с измеренным на опыте с погрешностью менее 7 %! «Ничто на свете не производит на физика более сильного впечатления, – отмечает один американский физик, – чем численное согласие между экспериментом и теорией, и я, бывший свидетелем появления этой формулы, не думаю, что численное согласие в принципе может быть более впечатляющим, чем в этом случае»[331]. Работа «О строении атомов и молекул» имела для физики судьбоносное значение. Она не только предложила пригодную к использованию модель атома, но и показала, что события, происходящие на атомном масштабе, имеют квантовую природу: дробна не только материя, состоящая из атомов и других частиц, но и происходящие в ней процессы. Процессы прерывны, и «гранулой» процесса – например движения электрона внутри атома – является постоянная Планка. Таким образом, старая механистическая физика была неточной; она давала хорошее приближение, работающее для событий крупномасштабных, но оказалась не в состоянии учесть тонкости атомного уровня. Бор был рад спровоцировать такое столкновение между физикой старой и физикой новой. Ему казалось, что оно должно быть плодотворным с точки зрения развития физики. Поскольку любая оригинальная работа мятежна по своей природе, его статья была не только исследованием физического мира, но и политической декларацией. В некотором смысле в ней предлагалось начать реформистское движение в физике: ограничить ту область, на которую она претендовала, и очистить физику от эпистемологических заблуждений. Механистическая физика стала авторитарной. Она переоценивала свои масштабы, утверждая, что Вселенная и всё в ней жестко подчинены механистическим причинам и следствиям. Геккелианство было доведено в ней до предела, до полной омертвелости. Оно угнетало Нильса Бора так же, как геккелианство биологическое угнетало Кристиана Бора, как сходный авторитаризм в философии и буржуазном христианстве угнетал Сёрена Кьеркегора. Например, когда первую часть статьи Бора увидел Резерфорд, он тут же обнаружил в ней одну проблему. «Я обнаружил серьезное затруднение в связи с Вашей гипотезой, – писал он Бору 20 марта, – в котором Вы, без сомнения, полностью отдаете себе отчет; оно состоит в следующем: как может знать электрон, с какой частотой он должен колебаться, когда он переходит из одного стационарного состояния в другое? Мне кажется, что Вы вынуждены предположить, что электрон знает заблаговременно, где он собирается остановиться»[332][333]. В 1917 году Эйнштейн показал, что физический ответ на вопрос Резерфорда должен быть статистическим: все частоты возможны, и реализуется наиболее вероятная из них. Однако сам Бор отвечал на этот вопрос в более поздней лекции в более философском и даже антропоморфном ключе: «Принимая за основу неделимость кванта действия, автор настоящей работы предложил представить каждое изменение состояния атома как индивидуальный процесс, который нельзя описать детально и в ходе которого атом переходит из одного так называемого стационарного состояния в другое… Мы здесь так далеко отходим от причинного описания, что каждому атому в стационарном состоянии мы предоставляем свободный выбор между различными возможностями перехода в другие стационарные состояния»[334][335]. «Ключевые слова» этого утверждения, как мог бы сказать Харальд Гёффдинг, – это слова индивидуальный и свободный выбор. Бор утверждает, что изменения состояния индивидуального атома непредсказуемы; ключевые слова окрашивают это физическое ограничение личными чувствами. Собственно говоря, статья 1913 года имела для Бора большое эмоциональное значение. Это был замечательный пример того, как работает наука, и того ощущения подтверждения собственной личности ученого, которое может дать ему научное открытие. Собственные эмоциональные заботы Бора позволили ему осознать ранее никем не замеченные закономерности природного мира. Параллели между психологическими тревогами его юности и его интерпретацией атомных процессов настолько необычайны, что, если бы его статья не обладала такой огромной предсказательной силой, выдвинутые в ней предположения казались бы совершенно необоснованными. Например, Бор весьма серьезно относился к вопросу о свободе воли. Обнаружение своего рода свободы выбора внутри самого атома было настоящим торжеством его системы убеждений. Раздельные, дискретные электронные орбиты, которые Бор называл стационарными состояниями, напоминают стадии Кьеркегора. Также напоминают они и о попытке Бора переопределить проблему свободы воли при помощи раздельных, дискретных римановых поверхностей. Если между стадиями Кьеркегора существуют разрывы, преодолеть которые можно лишь скачкообразным изменением верований, то и электроны Бора прерывистым образом перескакивают с орбиты на орбиту. Одно из двух «основных допущений»[336] статьи Бора, на которых он настаивал, заключалось в том, что положение электрона между орбитами нельзя не только рассчитать, но даже и представить себе. Его положения до и после перехода абсолютно не связаны друг с другом. С этой точки зрения каждое стационарное состояние электрона есть состояние завершенное и уникальное, и именно такая цельность определяет его устойчивость. Напротив, непрерывные процессы, предсказываемые классической механикой, которые Бор, по-видимому, ассоциировал с бесконечной рациоцинацией лиценциата, разрывают атом на части или запускают спиральное падение, ведущее к его гибели. Возможно, Бор справился с эмоциональным кризисом своей юности отчасти благодаря тому, что призвал на помощь бывший у него в детстве дар буквального мышления. Как известно, он настаивал на том, что физика должна быть прочно привязана к фактам, и отказывался выводить рассуждения за пределы подтвержденной на опыте физической реальности. Он никогда не был создателем систем. «Бору свойственно избегать слова “принцип”, – говорит Розенфельд; – он предпочитает говорить о “точке зрения” или, еще лучше, “аргументе”, то есть ходе рассуждений. Также он редко упоминает “законы природы”, а говорит скорее о “закономерностях явлений”»[337]. Такой выбор терминологии вовсе не был вызван ложной скромностью Бора; он напоминал самому себе и своим коллегам, что физика – не грандиозная философская система авторитарных заповедей, а просто, по его излюбленному выражению, способ «задавать вопросы Природе»[338]. Сходным образом он объяснял и свойственную ему сбивчивую, несвязную речь: «Я стараюсь говорить не более ясно, чем думаю»[339]. «Он отмечает, – добавляет Розенфельд, – что идеализированные концепции, которые мы используем в науке, в конечном счете неизбежно происходят из повседневного жизненного опыта, который сам по себе уже не поддается дальнейшему анализу. Поэтому каждый раз, когда две такие идеализации оказываются несовместимыми друг с другом, это может означать только, что на их справедливость наложено некое взаимное ограничение»[340]. Бор нашел средство от раскручивающейся спирали сомнений в выходе из того, что Кьеркегор называл «волшебной страной воображения»[341], и возвращении в реальный мир. В реальном мире материальные объекты сохраняются; значит, их атомы, как правило, не могут быть неустойчивыми. В реальном мире иногда кажется, что причины и следствия ограничивают нашу свободу, но в других случаях мы знаем, что выбор остается за нами. В реальном мире сомнения в существовании не имеют смысла; само сомнение доказывает существование сомневающегося. Значительная часть трудностей происходит из языка, этой ускользающей среды, в которой, по мнению Бора, мы безнадежно подвешены. «Неверно думать, – неоднократно говорил он своим коллегам, – будто задача физики состоит в выяснении того, как устроена природа», – именно эту область объявила своей классическая физика. «Физика занимается тем, что мы можем сказать об устройстве природы»[342]. Позднее Бор развил идею о взаимных ограничениях, ведущих к совершенствованию знания, в значительно большей степени. Она стала глубокой философской основой как для его общественной деятельности, так и для его физики. В 1913 году он впервые продемонстрировал ее силу в качестве средства решения задач. «Было ясно, – вспоминал он в конце своей жизни, – и именно в этом и заключалось значение атома Резерфорда, что мы нашли нечто такое, после чего какое бы то ни было продвижение вперед возможно только путем радикальных изменений. И именно поэтому [я] тогда занялся этим вопросом так серьезно»[343].
4 Заранее вырытая длинная могила
День приезда кайзера был великим днем в жизни Отто Гана. 23 октября 1912 года[344], в день торжественного открытия двух первых Институтов кайзера Вильгельма, химического и физико-химического, – в это время Бор в Копенгагене приближался к созданию своего квантового атома, – в Далеме, юго-западном пригороде Берлина, было сыро[345]. На императоре Вильгельме II, старшем внуке королевы Виктории, был плащ, защищавший от дождя его мундир; темный воротник его шинели выделялся на более светлой ткани плаща. Официальные лица, шедшие в установленном порядке за императором, – первыми из них были его школьный друг Адольф фон Гарнак и выдающийся химик Эмиль Фишер – обходились темными пальто и цилиндрами; те в конце процессии, у кого были зонты, несли их закрытыми. Школьники выстроились вдоль тротуаров блестящей от дождя улицы с фуражками в руках, как солдаты на параде. Они стояли, по-детски изображая стойку «смирно», обратив благоговейно застывшие, мечтательные лица к проходившему вдоль их строя тучному человеку средних лет с закрученными вверх усами, который верил, что властвует над ними по божественному праву. Им было лет по тринадцать-четырнадцать. Вскоре им предстояло стать солдатами. Чиновники Министерства культуры убеждали его императорское величество оказать поддержку германской науке. В ответ на их просьбы он предоставил землю бывшей императорской фермы под научно-исследовательский центр. Затем промышленные компании и правительство внесли в научный фонд, Общество кайзера Вильгельма, обильные пожертвования на работу предполагавшихся институтов, число которых к 1914 году достигло семи[346]. Общество начало свое официальное существование в начале 1911 года, и его первым президентом стал богослов и сын богослова Адольф фон Гарнак. Императорский архитектор Эрнст фон Инне энергично взялся за дело. Кайзер приезжал в Далем на торжественное открытие первых двух завершенных зданий, и ему должен был особенно понравиться Институт химии. Он был построен в глубине широкой лужайки на углу улиц Тильаллее и Фарадейвег: три этажа, облицованные тесаным камнем и усеянные окнами по шесть стекол, крутая, остроконечная шиферная крыша и установленный на уровне крыши над главным входом классический фронтон, опирающийся на четыре дорические колонны. Вдоль поперечной улицы от здания отходило боковое крыло. Между основным корпусом и боковым крылом выступала наподобие шарнира круглая башня, резко поднимающаяся до высоты четвертого этажа. Фон Инне увенчал эту башню куполом. Утверждается, что башня была задумана в качестве уступки вкусу кайзера. Поскольку чувство юмора не входило в число достоинств Вильгельма II, башня ему несомненно понравилась. Ее купол был выполнен в форме гигантского «пикельхаубе», опереточного шлема с пикой, который носил и сам кайзер, и его солдаты. Оставив Эрнеста Резерфорда в Монреале, Ган переехал в 1906 году в Берлин, где он должен был работать в университете вместе с Эмилем Фишером. Хотя Фишер занимался органической химией и мало что знал о радиоактивности, он понимал, что эта область приобретает все большее значение, а Ган – первоклассный специалист в ней. Он организовал Гану рабочее место в столярной мастерской, находившейся в подвале его лаборатории, и устроил его на должность приват-доцента, что дало не столь прогрессивным университетским химикам повод сетовать на ужасное падение нравов. Химик, утверждающий, что может находить новые элементы при помощи электроскопа с золотой фольгой, наверняка должен был оказаться в лучшем случае посмешищем[347], а то и попросту мошенником. Ган обнаружил, что университетские физики ближе ему по духу, чем химики, и регулярно бывал на физических коллоквиумах. На одном из таких коллоквиумов осеннего семестра 1907 года он познакомился с австрийкой Лизой Мейтнер, только что приехавшей из Вены. Мейтнер было двадцать девять лет; она была на год старше Гана. Она защитила диссертацию в Венском университете и уже опубликовала две работы по альфа- и бета-излучению. В берлинскую докторантуру ее привлекли лекции Макса Планка по теоретической физике. Ган увлекался гимнастикой, лыжами и альпинизмом; он отличался мальчишеской красотой, любил пиво и сигары, говорил с тягучим рейнским произношением и обладал мягким, самоуничижительным чувством юмора. Ему нравились красивые женщины, и он всячески их обхаживал и сохранял дружбу со многими из них на протяжении всей своей жизни счастливо женатого человека[348]. Мейтнер была миниатюрной черноволосой красавицей, хотя и болезненно стеснительной. Ган подружился с нею. Когда она обнаружила, что у нее остается свободное время, она решила заняться экспериментальными исследованиями. Ган тоже. Ей нужен был сотрудник. Гану тоже. Сотрудничество физика и радиохимика оказалось весьма плодотворным. Им нужна была лаборатория. Фишер разрешил Мейтнер занимать часть столярной мастерской при условии, что она никогда не будет появляться в лабораториях надземных этажей, в которых работали студенты – исключительно мужского пола. В течение двух лет она строго соблюдала это правило; затем, когда правила работы университета стали либеральнее, Фишер смилостивился, разрешил женщинам поступать на учебу и выпустил Мейтнер из подвала. Вена была в то время местом лишь немногим более просвещенным. Прежде чем Мейтнер смогла приступить к изучению физики, ее отец, адвокат, – все семейство Мейтнер состояло из ассимилированных, крещеных австрийских евреев – заставил ее получить диплом учителя французского, чтобы она всегда могла найти средства к существованию. Только после этого она могла начать готовиться к работе в университете. Получив этот диплом, Мейтнер прошла восьмилетний подготовительный курс гимназии за два года. Она была второй женщиной, получившей в Вене степень доктора философии. Ее отец спонсировал ее исследовательскую работу по меньшей мере до 1922 года, когда Макс Планк, ставший к тому времени горячим поклонником таланта Мейтнер, устроил ее на должность научного ассистента. Эйнштейн называл ее «немецкой мадам Кюри», характерным образом смешивая все германские народы, несмотря на ее австрийское происхождение[349]. «Ни о каких более тесных отношениях между нами вне лаборатории не было и речи, – говорит Ган. – Лиза Мейтнер была воспитана в строгих, благородных правилах и была женщиной сдержанной, даже стеснительной». Они никогда вместе не обедали, никогда вместе не гуляли и встречались только на коллоквиумах и в своей столярной мастерской. «И тем не менее мы были близкими друзьями»[350]. Чтобы скрасить долгие часы, которые занимали измерения радиоактивных материалов для определения времени их полураспада, она насвистывала ему мелодии Брамса и Шумана. В 1908 году, когда Резерфорд проезжал через Берлин, возвращаясь с церемонии вручения Нобелевской премии, она самоотверженно водила Мэри Резерфорд по магазинам, пока мужчины, оставшись вдвоем, с удовольствием предавались долгим беседам. В 1912 году близкие друзья вместе переехали в новый институт и вместе работали над подготовкой выставки для кайзера. Когда Ган только начинал заниматься радиохимией, еще в Лондоне, до отъезда в Монреаль, он обнаружил, как ему тогда казалось, новый элемент, радиоторий, в сто тысяч раз более радиоактивный, чем скромный торий, по которому он был назван. В Университете Макгилла он открыл третье вещество, промежуточное между первыми двумя; его он назвал мезоторием. Впоследствии выяснилось, что мезоторий – один из изотопов радия. Соединения мезотория давали в темноте слабое свечение, радикально отличавшееся по интенсивности от свечения соединений радиотория. Ган подумал, что эти различия могут заинтересовать монарха. Он поместил ничем не прикрытый образец мезотория, интенсивность излучения которого была эквивалентна 300 миллиграммам радия, на бархатной подушечке в маленькую коробку. Этот эффектный сувенир он поднес кайзеру, предложив тому сравнить его с «излучающим образцом радиотория, создававшим в темноте очень приятные движущиеся формы на экране»[351]. Никто не предупредил его величество о радиационной опасности, потому что никаких правил техники безопасности при работе с радиационным излучением еще не было установлено. «Если бы я сделал такое сегодня, – говорил Ган пятьдесят лет спустя, – я оказался бы в тюрьме»[352]. Судя по всему, никакого вреда мезоторий не причинил. Кайзер проследовал во второй институт, в полуквартале к северо-западу по Фарадейвег, за боковым крылом. Институтом химии, в котором работали Ган и Мейтнер, руководили два заслуженных химика, но Институт физической химии и электрохимии, если называть его полным именем, был организован специально для человека, ставшего его первым директором, непростого в общении, изобретательного химика, немецкого еврея из города Бреслау Фрица Габера. Это была своего рода награда. Создание и работу института финансировал один из промышленных фондов Германии, потому что в 1909 году Габеру удалось разработать практический метод извлечения азота из воздуха для производства аммиака. Аммиак использовался в качестве искусственного удобрения, и это изобретение позволяло отказаться от основного для Германии и всего мира природного источника, нитрата натрия[353], который добывали в иссушенной пустыне на севере Чили. Этот источник был дорогим и ненадежным. Процесс Габера имел и неоценимое стратегическое значение: в военное время нитраты требовались для производства взрывчатки, а собственных источников нитратов у Германии не было. На церемонии открытия император Вильгельм распространялся об опасности гремучего газа, взрывчатой смеси метана с другими газами, которая накапливается в шахтах. Он призвал химиков найти какие-нибудь средства для его раннего обнаружения. Решение этой задачи, сказал он, «сто́ит пота на благородных лбах»[354]. Габер со своим благородным лбом – он брил свою круглую голову налысо, носил круглые очки в роговой оправе и усы щеточкой, хорошо одевался, задавал изящные обеды, но был очень несчастлив в семейной жизни, – начал работать над созданием свистка-индикатора метана, который должен был менять высоту тона при наличии в воздухе опасных газов. Получив в свое распоряжение современную лабораторию, не загрязненную старой радиоактивностью, Ган и Мейтнер приступили к работам по радиохимии, а также в новой области ядерной физики. Кайзер вернулся из Далема в свой берлинский дворец, довольный тем, что оставил свое имя на очередном учреждении расцветающей германской державы. Летом 1913 года Нильс Бор отплыл в Англию в сопровождении молодой жены. Перед ним отправились вторая и третья части его эпохальной статьи, которые он уже отослал Резерфорду по почте; он хотел обсудить их до публикации. В Манчестере он вновь увиделся со своим другом Дьёрдем де Хевеши и некоторыми другими исследователями. Один из тех, с кем он там встретился, возможно, впервые, был Генри Гвин Джефрис Мозли, которого все звали Гарри, выпускник Итона и Оксфорда, работавший с Резерфордом – в качестве лаборанта, показывавшего студентам опыты, – с 1910 года. Двадцатишестилетний Гарри Мозли был готов к великим свершениям. Ему не хватало только исходного толчка – и таким толчком стал приезд Бора[355]. Мозли был одиночкой, «человеком настолько замкнутым, – говорит А. С. Рассел, – что я не мог понять, нравится он мне или нет»[356], но имел неприятное обыкновение не сдерживаться, когда при нем высказывали какое-нибудь безосновательное утверждение. В тех редких случаях, когда он отрывался от работы, чтобы выпить чаю в лаборатории, ему удавалось осадить даже самого Эрнеста Резерфорда. Остальные «мальчики» Резерфорда прозвали его Папой. Мозли уважал шумного лауреата, но, конечно, никогда не выражал столь интимных чувств; ему казалось, что Резерфорд прикидывается неотесанным провинциалом. Сам Гарри происходил из рода выдающихся ученых. Его прадед, управлявший приютом для умалишенных, был целителем увлеченным, но так и не обзаведшимся врачебным дипломом, зато дед его был капелланом и профессором натуральной философии в Кингз-колледже, а отец стал биологом трехлетней экспедиции на корабле «Челленджер», по материалам которой было опубликовано новаторское исследование Мирового океана в пятидесяти томах. Генри Мозли – Гарри назвали так же, как звали его отца, – удостоился дружеской похвалы Чарльза Дарвина за свой популярный однотомный отчет под названием «Записки натуралиста о путешествии на “Челленджере”» (Notes by a Naturalist on the Challenger); в свою очередь, Гарри работал в Манчестере с внуком Дарвина, физиком Чарльзом Г. Дарвином. Хотя он был замкнут до чопорности, в экспериментальной работе он был неутомим. Иногда он работал по пятнадцать часов подряд, до глубокой ночи, пока не доходил до полного изнеможения; тогда, где-то перед рассветом, он подкреплялся скудной трапезой из сыра и ложился спать на несколько часов, а в полдень завтракал фруктовым салатом. Он был человеком подтянутым, аккуратным в одежде и консервативным и любил своих сестер и овдовевшую мать, которой он регулярно писал непринужденные и теплые, полные любви письма. Когда он заканчивал Оксфорд, приступ сенной лихорадки не позволил ему сдать выпускные экзамены по дополнительным курсам; он терпеть не мог преподавать манчестерским студентам, среди которых было много иностранцев – «индусов, бирманцев, япошек, египтян и прочих индийских подонков»; он испытывал отвращение к их «надушенной нечистоплотности»[357]. Но осенью 1912 года Гарри наконец нашел себе великую тему для работы. 10 октября он писал матери: «Некоторые немцы получают чудесные результаты, пропуская икс-лучи сквозь кристаллы, а затем фотографируя их»[358]. Немцы эти работали в Мюнхене под руководством Макса фон Лауэ. Фон Лауэ обнаружил, что упорядоченная, повторяющаяся структура кристалла позволяет получить из рентгеновских лучей монохроматическую интерференционную картину подобно тому, как зеркальные, разнесенные на малое расстояние внутренняя и внешняя поверхности мыльного пузыря создают цветовую интерференционную картину из белого света. Открытие рентгеновской кристаллографии принесло фон Лауэ Нобелевскую премию. Мозли и Ч. Г. Дарвин приступили к исследованию этой новой области. Они достали необходимое оборудование и проработали всю зиму. К маю 1913 года они научились использовать кристаллы в качестве спектроскопов и заканчивали первую основательную работу. Рентгеновские лучи представляют собой высокоэнергетический свет с чрезвычайно малыми длинами волн. Атомная решетка кристалла разлагает их в спектр приблизительно так же, как призма разлагает видимый свет. «Мы выяснили, – писал Мозли своей матери 18 мая, – что источник икс-лучей с платиновой мишенью создает спектр с четкими линиями пяти длин волн… Завтра мы будем искать спектры других элементов. Речь идет о совершенно новой отрасли спектроскопии, которая непременно должна рассказать нам многое о природе атома»[359]. Затем приехал Бор, и они стали обсуждать старую идею Бора о том, что порядок расположения элементов в периодической системе должен соответствовать росту атомного номера, а не атомного веса, как считали химики. Например, атомный номер урана равен 92; атомный вес самого распространенного из изотопов урана равен 238; более редкий изотоп урана с атомным весом 235 имеет тот же атомный номер. Гарри мог заняться поисками регулярных смещений длин волн в линейчатых рентгеновских спектрах и доказать тем самым справедливость предположения Бора. Атомный номер должен был дать место для размещения в периодической системе всех уже открытых разнообразных физических разновидностей атомов, которые вскоре после этого получили название «изотопы»; атомный номер, определяющий заряд ядра и, следовательно, число электронов в атоме, от которого зависят химические свойства элемента, стал бы веским аргументом в пользу модели атома Резерфорда; линии рентгеновского спектра стали бы дополнительным подтверждением предложенных Бором квантовых электронных орбит. Эту работу Мозли предстояло выполнить в одиночку: Дарвин занялся к тому времени другими вопросами. Бор вместе с терпеливой Маргрете уехал в Кембридж, чтобы отдохнуть и окончательно довести до блеска свою статью. В конце июля Резерфорд и Мэри отправились в поход по идиллическим горам Тироля. Мозли остался в «невыносимо жарком и душном» Манчестере и продолжал работать в стеклодувной мастерской. «Даже сейчас, около полуночи, – писал он матери через два дня после отъезда Резерфорда, – я снимаю пиджак и жилет и работаю, открыв окна и двери, чтобы впустить хоть немного воздуха. Я приеду к тебе, как только доведу свой аппарат до рабочего состояния, еще до начала измерений»[360]. 13 августа он все еще работал над ним. Он объяснил, чего именно он хочет добиться, в письме к своей сестре Марджери:Так я хочу найти длины волн рентгеновских спектров как можно большего числа элементов, так как я считаю, что они окажутся гораздо более важными и фундаментальными, чем обычные световые спектры. Чтобы найти длины волн, нужно отражать икс-лучи, идущие от мишени из исследуемого элемента [при обстреле такой мишени катодными лучами]… После этого мне нужно всего лишь определить углы, под которыми они отражаются, и это дает мне длины волн. Я хочу добиться точности порядка по меньшей мере одной тысячной[361].Боры вернулись в Копенгаген, Резерфорды вернулись из Тироля, а потом наступил сентябрь, время ежегодного собрания Британской ассоциации, которое проходило в том году в Бирмингеме. Бор не собирался там быть, особенно после того, как слишком задержался в Кембридже, но Резерфорд считал, что приехать ему все же следует: вся конференция наверняка только и будет говорить, что о его квантовом атоме и поразительных спектральных предсказаниях. Бор уступил и поспешил приехать. Гостиницы Бирмингема были переполнены. Первую ночь он спал на бильярдном столе[362]. Затем предприимчивый де Хевеши нашел ему койку в общежитии женского колледжа. «И это было очень, очень удобно и удачно», – вспоминал впоследствии Бор, тут же добавляя, что «девушки были в отъезде»[363]. Президент Британской ассоциации сэр Оливер Лодж упомянул работу Бора в своем вступительном слове. Резерфорд рекламировал ее на заседаниях. Джеймс Джинс, специалист по математической физике из Кембриджа, шутливо отметил, что «единственным выдвинутым до сих пор обоснованием этих предположений является веский аргумент их успешности»[364]. Физик из Кавендишской лаборатории Фрэнсис У. Астон сообщил, что ему удалось разделить две разные по весу формы неона путем кропотливого рассеяния большой порции этого газа в трубочной глине, повторенного несколько тысяч раз, – «несомненное доказательство, – отметил де Хевеши, – того, что элементы с разными атомными весами могут обладать одними и теми же химическими свойствами»[365]. Из Франции приехала Мария Кюри, «державшаяся скромно, – говорит А. С. Ив, – замкнуто, хладнокровно и благородно»[366]. Она отбилась от вцепившихся в нее британских журналистов похвалами Резерфорду: она предсказывала, что его работа «вероятно, будет иметь важнейшие последствия». Она назвала его «единственным ныне живущим человеком, от которого человечество может ожидать неоценимых благ»[367]. Осенью этого же года Харальд Бор сообщал брату, что молодые ученые в Гёттингене «не решаются поверить, что в [твоей статье] может излагаться объективная истина; они находят эти предположения слишком “дерзкими” и “фантастическими”»[368]. На фоне все еще существующего скептицизма многих европейских физиков Бор узнал от де Хевеши, что на самого Эйнштейна, которого тот встретил на конференции в Вене, его работа произвела сильное впечатление. Сходную историю де Хевеши рассказал и Резерфорду:
Когда мы с Эйнштейном говорили на разные темы, мы коснулись и теории Бора, и он сказал мне, что у него когда-то были похожие идеи, но он не осмелился их опубликовать. «Если теория Бора верна, она имеет огромное значение». Когда я рассказал ему о [недавнем обнаружении спектральных линий, находящихся именно там, где предсказывала их появление теория Бора], большие глаза Эйнштейна стали еще больше, и он сказал мне: «В таком случае это одно из величайших открытий». Я был очень рад услышать от Эйнштейна эти слова[369].Рад был и Бор. Мозли продолжал трудиться. Сначала ему не удавалось получить четкие фотографии рентгеновских спектров, но, когда он наконец овладел этой техникой, результаты оказались поразительными. Характеристические спектральные линии сдвигались по мере продвижения по периодической системе, каждый раз на один шаг, с абсолютной регулярностью. Совмещая одинаковые линии, Мозли составил маленькую лестницу из полосок фотопленки. 16 ноября он писал Бору: «В течение последних двух недель или около того я получал результаты, которые должны вас заинтересовать… До сих пор я работал с серией К [спектральных линий] от кальция до цинка… Результаты получились чрезвычайно простыми и в основном соответствуют вашим ожиданиям… K = N – 1 с высокой точностью, где N – атомный номер». Для кальция значение было равно 20, для скандия – 21, для титана – 22, для ванадия – 23, и так далее вплоть до цинка, для которого оно составляло 30. В заключение Мозли пишет, что его результаты «убедительно подтверждают те общие принципы, которые Вы используете, что чрезвычайно меня радует, так как Ваша теория влияет на физику великолепным образом»[370]. Безупречная работа Гарри Мозли дала экспериментальное подтверждение концепции атома Бора – Резерфорда, гораздо более убедительное и приемлемое, чем опыты Марсдена и Гейгера по рассеянию альфа-частиц. «Потому что, видите ли, – сказал Бор в своем последнем интервью, – работу Резерфорда на самом деле не принимали всерьез. Сейчас это невозможно понять, но ее вовсе не принимали всерьез… Великий переворот произвел Мозли»[371]. Отто Гана в очередной раз пригласили продемонстрировать его радиоактивные препараты. В начале весны 1914 года химическая компания Bayer, находившаяся в городе Леверкузене в Рейнской области близ Кёльна, давала прием по случаю открытия большого лекционного зала. Германская химическая промышленность лидировала в мире, а Bayer была крупнейшей химической компанией Германии: в ней работало более десяти тысяч сотрудников. Она выпускала около двух тысяч видов красок, многие тонны неорганических химикатов и широкий ассортимент медикаментов. Управляющий директор компании Карл Дуйсберг, химик, предпочитавший американский стиль управления промышленными предприятиями, пригласил на этот прием оберпрезидента Рейнской области; затем, чтобы придать мероприятию еще больше блеска, он позвал Гана[372]. Ган прочитал собравшимся сановникам лекцию о радиоактивности. В начале лекции он написал имя Дуйсберга на запечатанной фотопластинке маленькой стеклянной трубкой, наполненной концентрированным мезоторием. Пока он говорил, лаборанты проявили пластинку; в конце лекции Ган спроецировал радиографическую подпись на экран, чем вызвал восторженные аплодисменты. Кульминация этого праздника в огромном химическом комплексе площадью под 400 гектаров наступила вечером. «Вечером был устроен банкет, – с ностальгией вспоминал потом Ган, – и всё на нем было превосходным. На каждом из маленьких столиков стояло по великолепной орхидее, которые доставили из Голландии по воздуху». Орхидеи, доставленные на скоростном биплане, вполне могли служить символом процветания и мощи Германии в 1914 году, но управляющий директор хотел продемонстрировать еще и германское техническое превосходство и нашел весьма экзотические средства его выражения: «На многих столах, – говорит Ган, рисуя картину невообразимо футуристического прошлого, – вино охлаждалось при помощи сжиженного воздуха, залитого в теплоизолированные сосуды»[373]. Когда началась война, Нильс и Харальд Боры были в походе в Австрийских Альпах, проходя в день до тридцати пяти километров. «Невозможно описать то поразительное и прекрасное ощущение, – писал Нильс Маргрете из этого путешествия, – которое возникает, когда со всех горных вершин внезапно начинает опускаться туман, сперва совсем маленькими облачками, а в конце концов заполняя всю долину»[374]. Братья планировали вернуться домой 6 августа; война накатила так же внезапно, как горный туман, и они поспешили вернуться через Германию, чтобы успеть до закрытия границ. В октябре Бор с женой отплыли из нейтральной Дании в Англию: Бору предстояли два года преподавания в Манчестере. Мальчики Резерфорда уходили на войну, и ему требовалась помощь. Гарри Мозли был в начале августа вместе с матерью в Австралии, на собрании Британской ассоциации 1914 года; в свободное время он разыскивал утконосов и живописные серебряные рудники. Патриотизм австралийцев, которые немедленно начали мобилизацию, пробудил в нем итонский дух верности королю и отечеству. Он отплыл в Англию, как только нашел место на корабле. К концу октября он наконец заставил сопротивлявшегося офицера призывной комиссии вне очереди утвердить его в звании лейтенанта Королевского инженерного корпуса. Хаим Вейцман, высокий, крепко сложенный биохимик из российских евреев, тесно друживший с Эрнестом Резерфордом в Манчестере, был пылким сионистом в то время, когда многие – в том числе и многие из влиятельных британских евреев – считали сионизм движением по меньшей мере идеалистическим и наивным, если не безумным, фанатическим и даже опасным. Но Вейцман, хотя и был сионистом, также искренне восхищался британской демократией и почти сразу же после начала войны отмежевался от Международной сионистской организации, так как она предлагала сохранять нейтралитет. Ее европейские лидеры ненавидели царскую Россию, бывшую союзницей Англии; Вейцман тоже ее ненавидел, но, в отличие от них, не верил, что Германия с ее культурным и техническим превосходством выиграет эту войну. Он верил в победу западных демократий и считал, что судьба еврейства должна быть связана с ними. В момент начала войны он ехал в отпуск в Швейцарию в сопровождении жены и маленького сына. Им удалось вернуться в Париж, где он посетил престарелого барона Эдмонда де Ротшильда, бывшего финансовой опорой передовых сельскохозяйственных еврейских поселений в Палестине. К удивлению Вейцмана, Ротшильд разделял его оптимизм относительно исхода войны и тех возможностей, которые это открывало для евреев. Хотя Вейцман не занимал никакого официального положения в сионистском движении, Ротшильд посоветовал ему найти лидеров британских сионистов и поговорить с ними. Это совпадало с его собственными намерениями. Его надежды на британское влияние имели глубокие корни. Он был третьим ребенком из пятнадцати в семье лесоторговца, который сгонял бревна в плоты и сплавлял их вниз по Висле в город Данциг на распил и на экспорт. Вейцманы жили в разрешенной для проживания евреев бедной западной области России, так называемой черте оседлости. Когда Хаиму было всего одиннадцать лет, он написал письмо, которое предсказывало его деятельность во время войны. «Этот одиннадцатилетний мальчик, – сообщает его биограф Исайя Берлин, – говорит, что цари и народы мира явно стремятся уничтожить еврейский народ; евреи должны не допустить своего уничтожения; только Англия может помочь им вернуться в принадлежавшую им в древности землю, Палестину, и вновь достичь величия»[375]. Убеждения юного Вейцмана неуклонно вели его на запад. В восемнадцать он доплыл на одном из отцовских плотов до Западной Пруссии, добрался, работая по пути, до Берлина и поступил там в Высшую техническую школу. В 1899 году он защитил диссертацию в Университете Фрибура в Швейцарии, а затем продал компании Bayer патент, что значительно улучшило его финансовое положение. В 1904-м он переехал в Англию; этот переезд был, по его мнению, «шагом обдуманным и отчаянным… Мне грозила опасность превратиться в Luftmensch [буквально “человека из воздуха”], одного из этаких благонамеренных, расхлябанных и разочарованных “вечных студентов”»[376]. Химические исследования должны были спасти его от этой участи; он устроился в Манчестере под покровительством Уильяма Генри Перкина – младшего, главы тамошнего химического факультета, отец которого синтезировал мовеин, сиреневый краситель, давший название «сиреневому десятилетию»[377]. Это положило начало производству в Британии анилиновых красителей. Вернувшись в августе 1914 года из Франции в Манчестер, Вейцман нашел на своем столе циркуляр британского Военного министерства, предлагающий «всем ученым, в распоряжении которых имеются какие-либо открытия, представляющие военную ценность, сообщить о них». У него имелось такое открытие, и он сразу же предложил его Военному министерству, «не требуя никакого вознаграждения»[378]. Военное министерство не удостоило его ответом. Вейцман продолжил свои исследования. Одновременно с этим он начал искать связей с британскими лидерами, о которых они говорили с Ротшильдом, и эти попытки вылились приблизительно в две тысячи встреч, прошедших до конца войны. Открытие Вейцмана касалось бактерии и химического процесса. Бактерия называлась Clostridium acetobutylicum Weizmann, а неформально – B-Y (или организмом Вейцмана) и была анаэробным организмом, разлагающим крахмал. Вейцман нашел ее в початках кукурузы, когда пытался разработать процесс для производства синтетического каучука. Он думал, что сможет получить синтетический каучук из изоамилового спирта, одного из побочных продуктов спиртового брожения. Он искал бациллу – один из миллионов видов и подвидов, живущих в почве и на растениях, – которая преобразовывала бы крахмал в изоамиловый спирт более эффективно, чем уже известные штаммы. «В ходе этих исследований я нашел бактерию, которая производила значительное количество жидкости, пахнущей очень похоже на изоамиловый спирт. Но, когда я очистил эту жидкость, она оказалась смесью ацетона и высокочистого бутилового спирта. Профессор Перкин посоветовал мне просто вылить ее в раковину, но я ответил, что никакое чистое химическое вещество не бывает бесполезным и выбрасывать его не стоит»[379]. Это существо, найденное по счастливой случайности, и было бактерией B-Y. В смеси с вареной и измельченной кукурузой бактерия сбраживала кукурузу в водный раствор трех растворителей: на одну часть этилового спирта в нем приходилось три части ацетона и шесть частей бутилового спирта (бутанола). Затем эти три растворителя можно было разделить обычной дистилляцией. Вейцман попытался разработать процесс получения синтетического каучука из бутанола, и это ему удалось. Тем временем, уже перед самой войной, цены на природный каучук упали, и каучук синтетический потерял свою привлекательность. Не оставляя усилий, направленных на образование собственной страны для евреев, Вейцман приобрел в Манчестере верного и влиятельного друга в лице Ч. П. Скотта, высокого, пожилого, либерально настроенного редактора газеты Manchester Guardian. Скотт имел множество связей и, в частности, был самым доверенным политическим советником Дэвида Ллойд Джорджа. В результате одним пятничным утром в январе 1915 года Вейцман встретился за завтраком с энергичным низкорослым валлийцем, который был тогда канцлером Казначейства, а в середине войны стал премьер-министром[380]. Ллойд Джордж был воспитан на Библии. Он отнесся к идее возвращения евреев в Палестину сочувственно, особенно когда Вейцман сравнил каменистую, гористую, тесную Палестину с каменистым, гористым, тесным Уэльсом. Помимо Ллойд Джорджа Вейцман, к удивлению своему, обнаружил интерес к сионизму у таких людей, как Артур Бальфур, бывший премьер-министр, ставший в правительстве Ллойд Джорджа министром иностранных дел, и Ян Христиан Смэтс, пользующийся большим уважением бур, который присоединился к британскому военному кабинету в 1917 году, а до этого участвовал в его работе в неофициальной роли. «Нас ожидают поистине мессианские времена»[381], – писал Вейцман жене в этот период ранних надежд. Вейцман выводил B-Y в первую очередь для получения бутанола. Однажды ему случилось рассказать о своих работах по исследованию брожения главному химику-исследователю шотландского филиала динамитной компании Нобеля. Его собеседник был впечатлен. «Знаете, – сказал он Вейцману, – возможно, у вас в руках оказался ключ к разрешению одной очень важной ситуации»[382]. Крупный взрыв на производстве помешал компании Нобеля заняться разработкой этого процесса, но компания известила о нем британское правительство. «Так и случилось, – пишет Вейцман, – что как-то в марте [1915 года], вернувшись из Парижа, я нашел ожидавший меня вызов в британское Адмиралтейство»[383]. Адмиралтейство, первым лордом которого был Уинстон Черчилль – ему был сорок один год, в точности столько же, сколько и Вейцману, – столкнулось с острой нехваткой ацетона. Этот едкий растворитель был важнейшим ингредиентом производства кордита, бездымного пороха для тяжелой артиллерии, в том числе судовой. Название кордита происходит от шнуровидной формы, в которой его обычно изготавливают[384]. Это взрывчатое вещество, которое обеспечивает полет снарядов крупнокалиберных орудий судов британского военно-морского флота, преодолевающих многие километры водного пространства, к их морским или наземным целям, представляет собой смесь 64 % нитроцеллюлозы и 30,2 % нитроглицерина, стабилизированную 5 %-м вазелином и смягченную – желатинизированную – 0,8 %-м ацетоном. Без ацетона невозможно производить кордит, а без кордита потребовалась бы радикальная переделка орудий, которая позволила бы использовать в них другие взрывчатые вещества – иначе они быстро разъели бы их стволы. Вейцман согласился обдумать эту проблему. Вскоре после этого он и был вызван к первому лорду Адмиралтейства. Вот как Вейцман вспоминает свою встречу с «бодрым, обаятельным, очаровательным и энергичным» Уинстоном Черчиллем:
Чуть ли не с первых слов он сказал: «Итак, доктор Вейцман, нам нужно тридцать тысяч тонн ацетона. Сможете ли вы его произвести?» Эта властная просьба так меня перепугала, что я чуть было не пошел на попятную. Я ответил: «Пока что мне удавалось получать из процесса брожения по нескольку сот кубических сантиметров ацетона за раз. Я работаю в лаборатории. Я не техник, а всего лишь химик-исследователь. Но, если бы мне каким-то образом удалось произвести тонну ацетона, тогда я смог бы умножить это количество в какое угодно число раз…» Черчилль и его ведомство дали мне карт-бланш, и я взялся за дело, которое в течение следующих двух лет отнимало все мои силы[385].Это была лишь первая часть ацетоновой истории Вейцмана. Часть вторая началась в начале июня. В мае в британском военном кабинете произошли перестановки, вызванные расширяющимися поражениями в Дарданелльской операции при Галлиполи; премьер-министр Герберт Асквит потребовал отставки Черчилля с поста первого лорда Адмиралтейства и заменил его Артуром Бальфуром; Ллойд Джордж ушел с должности канцлера Казначейства и возглавил Министерство вооружений. Таким образом, Ллойд Джордж моментально унаследовал ацетоновую проблему в еще большем масштабе – ему нужно было удовлетворить потребности в ацетоне не только флота, но и армии. Скотт из Manchester Guardian рассказал ему о работе Вейцмана, и 7 июня они встретились. Вейцман сказал Ллойд Джорджу то же, что ранее Черчиллю. Ллойд Джордж был впечатлен и предоставил ему еще более широкую свободу действий для увеличения масштабов процесса брожения. В результате шести месяцев опытов на фабрике по производству джина Nicholson в лондонском районе Боу Вейцман вывел производство на уровень полутонны. Процесс оказался достаточно производительным. Он позволял получить 37 тонн растворителей – около 11 тонн ацетона – из 100 тонн зерна. Вейцман начал обучать промышленных химиков, а правительство тем временем реквизировало шесть английских, шотландских и ирландских винокуренных заводов, на которых они должны были работать. Затем все предприятие оказалось под угрозой остановки из-за нехватки американского зерна: немецкие подводные лодки так же душили британские морские перевозки во время Первой мировой войны, как и во время Второй. «Осенью этого года был большой урожай конских каштанов, – отмечает Ллойд Джордж в своих «Военных мемуарах». – Была организована общенациональная кампания сбора этих каштанов, чтобы использовать их крахмал вместо кукурузы»[386][387]. В конце концов производство ацетона было переведено в Канаду и Соединенные Штаты и вновь перешло на использование зерновых. «Когда наши затруднения были разрешены таким образом благодаря гениальным способностям д-ра Вейцмана, – продолжает Ллойд Джордж, – я заявил ему: “Вы оказали большую услугу правительству, и я хотел бы просить премьера рекомендовать его величеству дать вам орден или титул”. Он отвечал: “Я ничего не хочу для себя”. “Но нет ли чего-либо, что мы можем сделать в качестве признания ценной услуги, которую вы оказали стране”, – спросил я. Он отвечал: “Да, я хотел бы просить вас сделать кое-что для моего народа”. Он затем изложил свои пожелания в области возвращения евреев в Землю обетованную, которую они столь прославили. Таково было происхождение знаменитой декларации о создании национального очага для евреев в Палестине»[388][389]. Эта «знаменитая декларация», названная декларацией Бальфура и составленная в форме письма от Артура Бальфура к барону Эдмонду де Ротшильду, была обязательством британского правительства «с одобрением рассматривать вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа» и «приложить все усилия для содействия достижению этой цели»[390]. Происхождение этого документа было гораздо более сложным – дело далеко не ограничивалось простой уплатой за услуги Вейцмана в области биохимии. В нем участвовали и другие посредники, и государственные мужи; следует учесть и две тысячи бесед самого Вейцмана. Смэтс обозначил эту связь через много лет после войны, сказав, что «выдающаяся научная работа Вейцмана в военное время принесла ему известность и славу в высших эшелонах союзников, что придало гораздо больший вес его призывам к созданию национального очага для евреев»[391]. Однако, несмотря на эти необходимые оговорки, предложенная Ллойд Джорджем версия этой истории заслуживает большего внимания, чем обычно уделяют ей высокомерные историки. Письмо из ста восемнадцати слов, подписанное министром иностранных дел и гарантирующее поддержку создания в Палестине еврейской страны со стороны правительства его величества «с ясным пониманием того, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих в Палестине нееврейских общин», вряд ли можно считать неуместной наградой за спасение пушек британской армии и флота от преждевременного одряхления. Опыт Хаима Вейцмана стал первым поучительным примером того могущества, которое наука может приобретать во время войны. Правительство запомнило это. Наука тоже.
Второй битве при Ипре, которая началась 22 апреля 1915 года, предшествовала интенсивная немецкая артподготовка. Ипр был (точнее, был раньше – к этому моменту от него почти ничего не осталось) скромным рыночным городком в Юго-Восточной Бельгии, километрах в двенадцати от французской границы и менее чем в пятидесяти километрах вглубь материка от французского порта Дюнкерка. Вокруг Ипра простиралась изрытая снарядами болотистая низина, над которой возвышались малопривлекательные низкие холмы, самый высокий из которых, обозначенный на военных картах под названием «высоты 60» и ставший предметом самых ожесточенных сражений, имел всего 60 метров в высоту. До этого атакующая немецкая и обороняющаяся британская армии наперегонки стремились выйти к морю. Немцы надеялись выиграть эту гонку, чтобы обойти союзников с фланга. Поскольку германская армия еще не была полностью отмобилизована для военного времени, они даже ввели в действие так называемый Эрзац-корпус, набранный из плохо обученных студентов и старшеклассников, чтобы увеличить численность своих сил. Его потери в этой операции, которую в Германии назвали Kindermord, то есть «бойней детей», составили 135 000 человек. Однако британцам удалось удержать узкий фланг ценой жизни 50 000 солдат. Война, которая планировалась как серия молниеносных ударов, – быстрый марш через Бельгию, капитуляция Франции и домой к Рождеству, – превратилась в застойную окопную войну, и ситуация на Ипрском выступе ничем не отличалась от того, что происходило по всей линии фронта, от Ла-Манша до Альп. Артподготовка 22 апреля, положившая начало массированной попытке прорыва немецкой армии, загнала канадцев и французских зуавов, удерживавших фронт в районе Ипра, глубоко в траншеи. На закате она прекратилась. Немецкие войска отошли от линии фронта по перпендикулярным соединительным ходам, и на передовой остались только недавно обученные Pioniere – инженерные войска. Взлетела немецкая сигнальная ракета. Pioniere начали открывать газовые вентили. Зелено-желтое облако с шипением вырывалось из кранов и плыло по ветру через ничейную полосу. Оно стелилось по земле, заползало в воронки, проходило над гниющими телами убитых и сквозь проволочные заграждения, затем перетекало через сложенные из мешков с песком брустверы союзнических окопов и вниз по их стенкам мимо приступок для стрелков, заполняло траншеи, проникало в землянки и углубленные убежища: и те, кто вдыхал его, начинали кричать от боли и задыхаться. Это был хлор, едкий и удушающий газ. Он пах, как хлор, и обжигал, как хлор. Зуавы и канадцы начали массово отступать, спотыкаясь и падая. Многие другие солдаты, захваченные врасплох и не понимающие, что происходит, выбирались из своих окопов на ничейную полосу. Они хватались за горло, забивали в рот полы рубашек или шарфы, разрывали землю голыми руками и пытались спрятать в ней лицо. Они извивались в агонии; десять тысяч человек получили тяжелое отравление, еще пять тысяч погибли. Целые дивизии оставляли свои позиции[392]. Немцам удалось застать противника врасплох. Все воюющие стороны обязались в соответствии с Гаагской декларацией 1899 года об удушающих газах «отказаться от употребления снарядов, имеющих единственным назначением распространение удушающих или отравляющих газов»[393]. По-видимому, никто не считал, что эта декларация затрагивает слезоточивый газ, хотя на самом деле слезоточивые газы в достаточной концентрации могут быть даже более токсичны, чем хлор. Французы применили слезоточивый газ в винтовочных гранатах еще в августе 1914 года; немцы использовали его в артиллерийских снарядах против русских в сражении при Болимове в конце января 1915-го, а затем, в марте того же года, и на Западном фронте, против британцев под Ньивпортом. Однако применение хлора под Ипром было первой крупной преднамеренной газовой атакой этой войны. Как случалось и позже с другими видами оружия, производившими неожиданное действие, хлор ужасал и приводил в замешательство. Солдаты бросали оружие и бежали. Военных врачей и санитарные палатки внезапно захлестнул поток жертв, причина увечий которых была неизвестна. Однако химики, бывшие в числе переживших эту атаку, достаточно быстро узнали хлор и предложили простые и известные средства его нейтрализации. Уже через неделю лондонские женщины сшили 300 000 повязок из ваты, обернутой муслином, которые пропитывали гипосульфитом – это были первые, еще несовершенные, противогазы[394]. Хотя германское Верховное командование и разрешило применить газы под Ипром, оно, по-видимому, сомневалось в их тактических достоинствах. Оно не подготовило за линией фронта массированных резервных сил, которые могли бы перейти в наступление после газовой атаки. Союзные дивизии быстро закрыли образовавшийся разрыв. Газовая атака не принесла ничего кроме мучений. Отто Ган, бывший пехотным лейтенантом запаса, участвовал в установке газовых баллонов[395]. 5730 баллонов содержали 168 тонн хлора и исходно были установлены в другой точке фронта[396]. Землекопы вкапывали их в передние стенки траншей на уровне приступок для стрелков и быстро закрывали баллоны мешками с песком, чтобы предохранить их от попадания осколков. Чтобы привести их в действие, нужно было подсоединить к вентилю свинцовую трубку, вывести ее поверх бруствера на ничейную полосу, дождаться ракеты, сигнализирующей о начале атаки, и открыть кран в заранее назначенный момент. При нормальном давлении хлор кипит при 33,6° ниже нуля; после открытия баллона он стремительно выкипает. Однако в том месте, где Ган и его Pioniere изначально установили баллоны с хлором, были неблагоприятные господствующие ветры. К тому времени, как Верховное командование решило переместить их к Ипру и установить вдоль шестикилометрового участка фронта, на котором направление ветра было более благоприятным, Гана уже отправили разведывать условия для газовой атаки в Шампани. В январе его вызвали в оккупированный немцами Брюссель на встречу с Фрицем Габером. Габера только что повысили в звании, от старшего сержанта запаса до капитана, что было по меркам аристократической германской армии беспрецедентным скачком. Это звание было нужно ему, сказал он Гану, для его новой работы. «Габер сообщил мне, что его новая работа заключалась в организации особого подразделения для ведения газовой войны»[397]. Кажется, Ган был шокирован. Габер изложил ему свои доводы. Эти доводы еще не раз приходилось слышать в ходе войны:
Он объяснил мне, что на Западных фронтах, совершенно остановившихся, развитие военных действий может быть достигнуто только при помощи новых видов оружия. Одним из таких видов оружия могли стать отравляющие газы… Когда я возразил ему, сказав, что такие методы ведения войны нарушают Гаагскую конвенцию, он ответил, что французы уже начали их использовать – хотя и не добились при этом особенных результатов, – когда применили стрелковые боеприпасы, наполненные газом. Кроме того, это позволит спасти бесчисленное множество жизней, если приведет к скорейшему окончанию войны. ...
Все права на текст принадлежат автору: Ричард Роудс.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Купить эту книгу в ЛитРес
Купить эту книгу в ЛитРес