Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

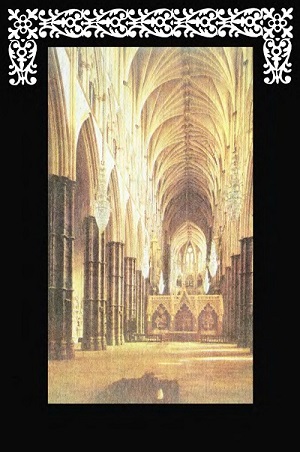
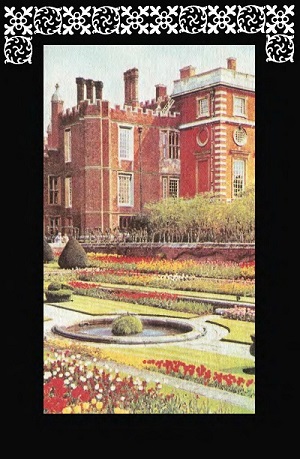


Джон Голсуорси


«ДОСТИГШИЙ ВЫСОТ ПРЕКРАСНОГО»

В 1976 году в Англии произошла литературная сенсация — вышел в свет… новый роман классика мировой литературы Джона Голсуорси (1867–1933), «Полнометражный» по объему, он называется по имени главной героини «Джослин» и хронологически является первым из всех принадлежащих перу писателя романов. Как же случилось, что книга автора, чьи произведения постоянно переиздаются не только в Англии, но и во всем мире, так долго оставалась «под спудом» и была практически неизвестна широкой читающей публике? Чтобы понять это, обратимся к истории создания романа. В 1889 году Джон Голсуорси, выходец из состоятельной семьи, послужившей впоследствии прототипом семьи Форсайтов, окончил Оксфордский университет, где изучал право. Став через год членом коллегии адвокатов, он тем не менее был крайне недоволен избранным родом деятельности. «Я произносил речи в различных палатах, почти не имел практики и очень не любил свою работу», — вспоминал он впоследствии[1]. Голсуорси неохотно брался за новые дела, при первой возможности покидал Лондон и отправлялся путешествовать по самым отдаленным странам. В его голове бродили смутные мысли о том, пе попробовать ли себя на литературном поприще. Большую роль в том, что эти неясные идеи переросли у него в твердую решимость, биограф Голсуорси X. Мэррот отводит состоявшемуся в 1895 году знакомству Джона с Адой Голсуорси, женой его кузена Артура. Когда Джон провожал Аду и ее мать на Северном вокзале в Париже, Ада сказала ему знаменательные слова: «Почему вы пе пишете? Вы же прямо созданы для этого». Голсуорси впоследствии говорил, что эти слова, как луч маяка, осветили ему его дальнейший жизненный путь. Слова эти привели еще и к другому результату — между Джоном и Адой, явно несчастливой в браке, возникла взаимная симпатия, незаметно переросшая вскоре в глубокое чувство. Ада была первым читателем и критиком его сочинений, ободряла его, когда он чувствовал себя неуверенно — а это пока еще бывало нередко. Как вспоминал сам Голсуорси, началось все с овладения «самой примитивной техникой письма, на что ушло лет пять». Первая его литературная публикация — изданный им на собственные средства сборник рассказов «Под четырьмя ветрами» (1897). Автор скрыл свое имя под псевдонимом Джон Синджон. В рассказах нашли отражение впечатления от увиденного во время кругосветного путешествия, увлеченность творчеством Стивенсона, Брет Гарта, Конрада, да и собственная его, Голсуорси, романтическая натура. Сборник, в который вошло девять рассказов, был издан тиражом 500 экземпляров, заслужил сдержанное одобрение критики, однако тираж его так и не был распродан. Впоследствии писатель отзывался о нем как об «ужасной книжонке» и просил друзей сжечь хранившиеся у них экземпляры. Однако, как он сам признавал, сборник этот означил конец определенного этапа его творческой деятельности — ученичества. Наступил новый этап и в личной жизни писателя — в 1895 году Джон и Ада «бросают вызов приличиям» и открыто поселяются вместе, что сразу поставило Джона вне светского общества, в котором он не так давно еще не без удовольствия вращался. В Англии, на «острове фарисеев», нет прощения любви, если она не освящена брачным обрядом. Перестали поручать Джону и судебные дела, чему он был, пожалуй, даже рад. Он окончательно порывает с адвокатурой и сосредоточивает свое внимание исключительно на литературной деятельности. Материалом для следующей его книги стала сама история отношений Джона и Ады и то, что ей предшествовало. Тема несчастливого брака, сковывающего супругов по рукам и ногам, невыносимой жизни под одной крышей с нелюбимым человеком, вызов условностям любви стала с этих пор одной из основных в творчестве писателя. Кому из них — Джону или Аде — пришла в голову мысль, что первый роман Джона должен быть посвящен истории их любви, неизвестно. Их жизненная ситуация, однако, представлена в книге как бы в зеркальном отражении — в несчастливом браке состоит не героиня романа, а герой. Любовный же треугольник в романе, как и в жизни, налицо. Герой романа, англичанин (очевидно, французского происхождения) Жиль Легар состоит в браке с Ирмой, женщиной, не подходящей ему ни темпераментом, пи характером и к тому же обреченной провести остаток жизни в инвалидном кресле. Знакомство Жиля с молодой англичанкой Джослин Ли приводит к тому, что они начинают чувствовать друг к другу сердечную склонность. Являются ли герои романа прототипами автора и его возлюбленной? На наш взгляд, если Легар и имеет что-то общее с Голсуорси, то это лишь до крайности «сглаженный воспитанием» характер, что вообще свойственно многим англичанам. Стремление в любых ситуациях оставаться джентльменом и соответственно себя вести причинило немало вреда и самому писателю, но что поделаешь? Привычка — вторая натура. В остальном же Легар — явный антипод Голсуорси, характеру которого не были присущи эгоцентризм и рефлексия. Однако любовь к Джослин дается Жилю дорогой ценой, и, читая о его мучительных переживаниях, невольно начинаешь ему сочувствовать. Считается, что автор описывает в романе свой собственный «мильон терзаний», пытается понять причины своих душевных мук. Это помогает ему проникнуть в глубь эмоциональной сферы охваченного глубоким чувством человека, детально разобрать психологическую мотивацию поступков Жиля, описать каждое его душевное движение и вечную смену его настроений — переходы от отчаяния к надежде. В целом образ Жиля — полнокровный и цельный, несмотря на все противоречия натуры этого человека, — писателю, на наш взгляд, явно удался. Интересен и образ героини романа. В Джослин критики и биографы Голсуорси видят портрет Ады, его будущей супруги. Джослин молода, красива, полна жизненных сил и составляет разительный контраст с тяжело больной женой Жиля. К тому же Джослин, в отличие от Ирмы, близка ему по духу. Оценивая ее характер, можно сделать вывод, что она неплохой человек; нельзя даже сказать, что она лишена способности к состраданию. Однако слишком часто Джослин оказывается глуха к переживаниям близкого ей человека; она органически не способна понять, что творится у него в душе. Создается странная ситуация: два любящих друг друга человека испытывают порознь душевные муки, но ни один из них не в состоянии помочь другому или хотя бы разделить с ним бремя его страданий. Между ними незримая стена непонимания… Каждый думает лишь о себе. В то же время все эти терзания и неудовлетворенность собственной жизнью толкают их друг к другу, ибо у кого еще искать им сочувствия? Таковы взаимоотношения героев, и, быть может, чем-то похожи они на взаимоотношения Джона и Ады. Характер Джослин (Ады?) описан весьма ярко, без прикрас. «Голсуорси любил Аду, Жиль любил Джослин, но понравится ли такая героиня читателю? Не покажется ли она ему слишком жестокосердной и эгоистичной?» — вопрошает исследовательница творчества Голсуорси Кэтрин Дюпре[2]. И действительно, пе в этой ли откровенности, которую писатель мог посчитать излишней, кроется причина странной, необычной судьбы романа? Рукопись его — «около 57 тысяч слов» — была 29 января 1898 года отправлена издателю Фишеру Анвину, выпустившему чуть больше года назад первую книгу Голсуорси «Под четырьмя ветрами». На этот раз писатель, уверенный в достоинствах романа, заявил, что «не намерен брать на себя какие-либо расходы». Анвин отказался «пускаться в рискованное предприятие», однако «рискнуть» решил другой издатель, молодой Джеральд Дакуорт. В 1898 году роман вышел в свет под прежним псевдонимом Голсуорси — Джон Синджон. Напечатано было всего 750 экземпляров, ставших впоследствии библиографической редкостью. Критика приняла роман без особого энтузиазма, хотя «Сатердей ревью» отметила, что он «выделяется из общего потока литературы» и что автору присущи «проницательность и юмор». Тираж книги разошелся, однако переиздания пе последовало. Более того, писатель обрек свой роман на забвение, запрещая переиздавать его в течение всей своей жизни. Это можно было бы понять, если бы произведение оказалось слабым и заслуживало бы столь критического отношения автора. Однако никто из тех, у кого была возможность познакомиться с романом, пе отзывался о нем, как о неудачном (исключение составляет, как пи странно, друг Голсуорси критик Эдуард Гарнет, мишенью критических стрел которого, кроме романа «Джослин», оказались лучшие книги писателя, такие, как «Собственник» и «Патриций»). По мнению Кэтрин Дюпре, многое в этой книге Голсуорси «можно по праву причислить к лучшим страницам его прозы»[3]. «Как первый роман писателя, он удачен, как первый роман автора с мировым именем — исключительно интересен, — отмечает исследовательница творчества Голсуорси. — Более того, Голсуорси разрешил печатать и переиздавать некоторые свои сочинения, которые мог бы с тем же успехом бросить в корзину»[4]. Оставив последний пренебрежительно-амбициозный пассаж на совести той, из-под чьего пера он вышел, согласимся с ней в главном: роман постигло забвение вовсе не из-за того, что он был неудачен. Вряд ли можно согласиться и с мнением Н. П. Михальской, считающей, что книга не переиздавалась потому, что «любовная драма романа „Джослин“ была лишена социальной, общественной значимости»[5]. Не «упрятал» же автор «в небытие», по выражению К. Дюпре, такие книги, как «Темный цветок» и «Сильнее смерти», социальное звучание которых не более громкое, чем романа «Джослин»! Да и не пора ли отечественному литературоведению перестать докапываться каждый раз до социальных корней любой книги, подобно тому как кадровик выясняет социальное происхождение каждого работника? Не достойнее ли было бы в данном случае отдать должное автору, написавшему глубоко психологический роман? Не переиздавался же он скорее всего потому, что в нем сказано слишком много такого, чего Голсуорси в зрелые годы не желал открывать широкой публике. И дело пе только в подмеченном К. Дюпре излишне правдивом описании характера Ады, но, на наш взгляд, и в самой личности писателя. Голсуорси, которого современники считали воплощением английского джентльмена, не любил выставлять напоказ свои эмоции, говорить или писать о своих чувствах; напротив, он старался их скрыть, спрятать от посторонних глаз. Не был он, по выражению Стефана Цвейга, «певцом своей жизни». Личная нота так открыто прозвучала в его творчестве лишь раз, именно в романе «Джослин». Потому и спрятал он его сперва под псевдонимом Джон Синджон, а впоследствии запретил переиздавать. Так роман канул в забвение. «Второе рождение» его, как мы рассказывали, произошло в 1976 году, когда он был издан уже под именем Джона Голсуорси и с предисловием Кэтрин Дюпре. После семидесятивосьмилетнего перерыва книга эта прочно заняла принадлежащее ей по праву место среди других произведений писателя и в англоязычных странах с тех пор неоднократно переиздавалась. Критики вспомнили, что роман правился Джозефу Конраду («Эта книга хороша. И вдохновляет», — писал он автору). Открыли в нем массу литературных достоинств: глубину мысли, захватывающий сюжет, колоритные персонажи, такие, как Нильсен и тетка Джослин и ее спутница в путешествиях миссис Трэвис, выписанная с поистине диккенсовской яркостью и сочным юмором. Стали сравнивать роман с последующими книгами Голсуорси. В самом деле, в нем заронены зерна, из которых потом взошли многие темы более поздних произведений писателя. Неудачный брак, собственнические инстинкты, противоречия любви и эгоистичной натуры, чуткости и душевной глухоты, порывов к Красоте и стремления упрочить материальное благополучие — все это можно найти уже в первом романе Голсуорси, как бы «задавшем тон» всему его последующему творчеству. Как раз отличающий эту книгу глубокий психологизм и заставил критиков отнестись к ней настороженно. Для английской литературы конца XIX века это было довольно-таки необычно. Все еще читали Диккенса и Теккерея, популярны были авантюрные романы Стивенсона, сентиментально-бытовые повествования Томаса Гарди. Интерес же к исполненным глубокого психологизма книгам Мередита («Эгоист», «Один из наших завоевателей») и Шарлотты Бронте («Джейн Эйр», «Ширли») успел уже почти угаснуть. Сам жанр романа на рубеже веков испытывал заметный кризис. В этом жанре не было бесспорных удач пи у проникнувшихся влиянием Эмиля Золя «натуралистов» Гиссинга и Джордж Элиот, ни у критиковавших их адептов «искусства ради искусства», в том числе и у самого Оскара Уайльда. Именно Голсуорси суждено было вывести роман из кризиса, создав произведения глубоко психологические и вместе с тем показывающие широкую панораму жизни общества. «Джослин» — лишь первый шаг в этом направлении. Для литературы того времени он был нехарактерен. Критики отметили привычное — комические образы Нильсена и миссис Трэвис, мастерскую стилистику писателя, но и только. Тонкая психологическая мотивировка каждого душевного движения героев, раскрытие подоплеки их поведения, глубина мысли в авторских отступлениях — самых обширных, какие только позволял себе Голсуорси в романах, — все это осталось незамеченным. Не удивительно, что успех писателю принесла следующая книга — изданная под тем же псевдонимом Джон Синджон «Вилла Рубейн» (1900), романтическая история о бунтаре-художнике, впечатлительной девушке, холеном светском подлеце и глубоко порядочном старом коммерсанте. Роман этот, по выражению Форда Медокса Форда, «свежий и изысканный», все же намного более традиционен для английской литературы, чем «Джослин». Недаром он был принят критикой как нечто знакомое, хорошо усвоенное. Справедливости ради заметим, что Голсуорси не искал легких путей к славе и завоевал ее книгами проблемными, проникнутыми глубоким психологизмом, отличающимися мастерским социальным анализом — романами «Остров фарисеев» (1904) и «Собственник» (1906), последний из которых положил начало замечательному циклу — «Саге о Форсайтах». Для романа «Джослин» уже характерно то, что будет отличать все дальнейшее творчество Голсуорси — умение встать на позицию каждого из героев, понять его точку зрения, взглянуть на мир его глазами, а главное — сочувствие ему. Такое проникновение в образ мыслей каждого из протагонистов — Легара и Нильсена («Джослин»), Сомса и Ирэн («Сага о Форсайтах»), Флер и Марджери Феррар («Современная комедия»), Дезерта и Маскема («Конец главы») — явление почти уникальное в мировой литературе. С годами в книгах Голсуорси углублялся и социальный пласт. Впервые проявившись в романе «Остров фарисеев» в форме размышлений о лицемерии обеспеченных слоев английского общества, тема эта получила дальнейшее развитие в книге «Собственник», где автор, по собственному выражению, «забальзамировал класс крупной буржуазии… чтобы на нее могли поглазеть люди, забредшие в огромный и неустроенный музей Литературы»[6]. Продолжил череду социальных «исследований» писателя роман «Патриций» (1911), посвященный изображению английской аристократии. «Аристократ как таковой вызывает во мне сильную неприязнь, но я постарался оставить это в стороне, а выбрал лучшие образцы»[7], — отмечал в одном из своих писем Голсуорси. Этих людей писатель хорошо знал — «вся моя компания в Оксфорде… наполовину состояла из них»[8]. «Их классовые достоинства — простота в обращении, внимательность, мужество и своего рода стоицизм — это отчасти результат того, что жизнь всегда их баловала, а отчасти взращено искусственно, для самосохранения. Копни чуть поглубже — и очень скоро обнаружишь помещика или буржуа»[9]. Если в романе «Собственник» суть конфликта в «набегах Красоты и посягательствах Свободы на мир собственников»[10], то в «Патриции» — в противостоянии живых человеческих чувств и сословных предрассудков. «Нападать на титулованных и власть имущих так легко, так опасно легко, что… это свело бы на нет все воздействие книги, — замечает автор. — Я на протяжении всего романа „нападаю“ на их иссохшие души… Мне хотелось проникнуть сквозь внешнюю броню и разоблачить или хотя бы показать обезличивающее, иссушающее, мертвящее влияние власти»[11]. Любовь молодого аристократа Юстаса Милтоуна к замужней женщине Одри Ноуэл грозит разрушить его так удачно складывающуюся политическую карьеру. Одри Ноуэл, несчастливая в браке, живущая отдельно от мужа, не дающего ей развод, — это, очевидно, еще один портрет Ады, на этот раз, правда, довольно-таки приукрашенный — она женственна и красива, деликатна и чувственна, «создана для любви». Линия фронта, как ни странно, проходит не между любящей парой и семьями высокородных Карадоков, Вэллисов и Кастерли, а в душе самого героя. В конце концов Милтоун, по выражению писателя, «добился своего, но то, чего он добился, сухо и скучно, как и он сам»[12]. В pendant истории Милтоуна в романе дается история его сестры Барбары, которая любит «рыцаря безнадежных битв» журналиста Куртье, по кончает тем, что «выходит замуж по всем правилам своего круга»[13]. Итак, кастовая мораль берет верх, но пе сродни ли эта пиррова победа «торжеству» Сомса в романе «Собственник», заканчивающемся трагическим возвращением Ирэн в его дом после гибели Боснии? Писатель вопрошает в письме: «Будут ли аристократы, прочтя эту книгу, все так же уверены в себе и в своем месте под солнцем?»[14] Элемент сатиры в романе несколько слабее, чем в других, более ранних книгах Голсуорси. Здесь царит высокий дух античной трагедии. По отзыву литературоведа Гилберта Мюррея (кстати, знатока античности), «роман больше похож на поэму, чем на прозаическое произведение», «Это самая прекрасная и самая горькая из ваших книг», — пишет он автору. Сам Голсуорси считал «Патриций» лучшим своим романом. На протяжении всей своей творческой жизни Голсуорси писал рассказы и достиг в этом жанре больших высот. Новеллы из сборников «Гостиница успокоения», «Моментальные снимки», «Пять рассказов» относятся к лучшим страницам его прозы. Представленные в настоящей книге рассказы Голсуорси на русский язык переведены впервые и большинству читателей в нашей стране, очевидно, незнакомы. Созданные писателем в расцвете своих творческих сил (с 1909 по 1922 год), они отражают многие важнейшие темы его творчества. Все пять новелл были включены их автором в сборник своих избранных рассказов «Караван» (1925), где он сопоставляет близкие по замыслу рассказы раннего и зрелого периодов. Писатель однажды отозвался о своих рассказах как о «зарисовках природы и жизни, повествующих о безмятежных и в то же время суровых их сторонах». Бурные события XX века заставляют всерьез задуматься над вопросом: не устарел ли Голсуорси? Многие критики относят его книги к литературе XIX столетия или помещают его «в самом конце шеренги»[15] реалистов века нынешнего. Но если окинуть внимательным взором творчество писателя, становится ясно, что оно всецело принадлежит XX столетию. В самом его начале Голсуорси сумел предугадать, до какой степени может быть унижен и обезличен человек (вспомним Фолдера из пьесы «Правосудие», Бикета из «Современной комедии», да и героя пьесы «Маленький человек»), не говоря уже о том, до чего людская жестокость может довести животное (рассказ «Черпая мадонна»). Не знал он лишь, до чего дойдет в дальнейшем это безличное, механическое изуверство — газовые камеры и напалм, всеобщая слежка за людьми и концентрационные лагеря, тотальный идеологический контроль и разгул терроризма. Все творчество писателя — это крик души человека, ужаснувшегося черствости и бездуховности людей, пытающегося пробудить в их душах человечность, восстановить утраченную способность воспринимать Красоту. И на этом пути он добивается того, к чему, по собственным его словам, должен стремиться каждый художник, — «достигает высот прекрасного». Друг и биограф Голсуорси X. Мэррот вспоминает, что сказал о писателе Генри Джеймс: «Голсуорси в такой же степени служит делу гуманизма вообще, как и литературе в частности».
Л. Кудрявицкий
ДЖОСЛИН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Легкий смех донесся из-за зеленых ставней в окнах одной из комнат отеля «Милан». Он неприятно резанул слух Жиля Легара, сидевшего скрестив ноги на залитой солнцем каменной террасе и, быть может, впервые за десять лет задумавшегося над положением вещей. Жиль наклонился и допил кофе, потом не спеша встал и устремил взгляд вниз, на пересыхающую речку, скудные воды которой спешили добраться до безмятежного моря. Он был наедине с солнечным светом, ярко освещавшим его лицо и, казалось, изучавшим его. Неосознанная, сглаженная воспитанием мужская самоуверенность Жиля так давно спасовала под напором обстоятельств, что это наложило на него заметный отпечаток. Его загорелое овальное лицо на мгновение приобрело свой естественный бледный оттенок, серые глаза закрылись, квадратный подбородок упрямо выступил вперед, тонкие изогнутые черные усы поникли, казалось, больше обычного, складки возле рта и вокруг глаз обозначились резче, отчего очертания лица стали походить на выбитый на монете профиль. Высокая, хорошо сложенная фигура Жиля казалась худощавой и унылой. Ему все-таки напомнил о себе тот непреложный факт, что в жилах его текла кровь, полноводный поток крови, звеневший в висках и пульсировавший в ладонях при одном лишь прикосновении той, кто подчинила себе его помыслы и волю, даже при ее взгляде. Он изменился, совершенно изменился; он чувствовал теперь, что совсем не знает себя, что его заметная окружающим сдержанность, кажущаяся сдержанность, — это единственное, что ему осталось, последняя преграда, отделявшая его от бездны, глубину которой он только что пытался измерить. Чтобы поглубже забросить лот в беспокойные воды действительности, он решительно пересек террасу и прислонился к полуоткрытой балконной двери, за которой в затененном ширмой углу просторной комнаты полулежала в инвалидном кресле одетая в белое женщина; она с карандашом в руке читала книгу, временами делая в ней пометки. Когда его фигура загородила свет, женщина подняла глаза. — А, Жиль! Я сегодня так долго пе имела удовольствия тебя видеть. Будь любезен, подай мне ту маленькую зеленую книжку со стола. Можешь пе оставаться со мной, je n’suis pas bon compagnon[16]. Мне нездоровится, так что я лежу и читаю моего любимого Толстого. Ее бледное, болезненно-желтоватое лицо осветилось улыбкой благодарности, когда он положил книгу рядом с ее креслом. — Весело ли ты проводишь время сегодня, mon cher[17]? Скажи нашей юной английской приятельнице, что мне хотелось бы ее видеть. — Джослин в соседней комнате, — медленно проговорил Жиль. — Ах, но не теперь, я сейчас так страдаю! Передай ей, что я ее люблю, а позднее скажи то, что я тебя просила. Ее черные глаза смотрели на мужа из глубоких глазниц наполовину жалобно, наполовину злобно, а потом, покорившись жестокому приступу боли, спрятались под бровями, опустившимися и разошедшимися в стороны от глубокой морщины посередине ее низкого славянского лба. — Мне очень жаль, что тебе сегодня так плохо. Могу я что-нибудь для тебя сделать? — спросил Жиль. Это было единственное, что пришло ему в голову; лицо его, несмотря на царившую в душе сумятицу чувств, ничего не выражало. — Развлекайся, mon cher, мне ничего не нужно, я хочу побыть одна. Видишь ли, у меня сегодня плохой день. Она снова взглянула на него, и, хотя побелевшие губы ее напряглись, можно было подумать, что она улыбается. Жиль отошел, но затем в нерешительности остановился у окна; он ничего не мог для нее сделать. Ирма нетерпеливым, хотя и слабым движением руки бросила книжку на колени. Солнечный луч, пробравшийся за ширму, упал на ее лицо. Она приподнялась, подвинула ширму и со вздохом откинулась назад, снова утонув в подушках. Из соседней комнаты донеслись звуки фортепиано. — Прости, — сказал Жиль. — Я ухожу. Он вышел на залитую солнцем террасу. Из-за ставней в окнах соседней комнаты слышалась негромкая прихотливая мелодия. Жиль остановился, лицо его исказилось — тихая мелодия затронула какую-то струну в его сердце, как будто исполнительница положила на эту струпу палец и потянула ее к себе. Он стоял, прислонившись к стене, спрятав руки в карманах и полузакрыв глаза. Теперь он узнал, какова глубина тех беспокойных вод, хотя, какой бы она ни оказалась, это уже не имело значения. Обстоятельства, обязанности, отношения с людьми более не существовали для него, они теперь казались ему призрачными. Единственной явью, воплощенной реальностью была для пего девушка, игравшая эту мелодию в скрытой ставнями комнате. Все остальное теперь ничего не значило. Он на миг испытал чувство облегчения — чувство, овладевающее человеком, чья жизнь до сих пор представляла собой компромисс с обстоятельствами, отучившими его желать слишком многого, в тот момент, когда он впервые убеждается, что необходимость приспосабливаться больше не довлеет над ним и в его жизни отныне будет все — или ничего. Шикари, большой пятнистый борзой пес, лежавший у стены, перестал лениво огрызаться на мух и, вытянув шею, облизал руки хозяину. «Развлекайся, mon cher», — вспомнились Жилю слова жены, и он усмехнулся. В создавшейся ситуации он не видел ничего, что могло бы его развлечь. Зеленые ставни тихо раздвинулись, и через балконную дверь на террасу вышел мужчина. — Как поживаете, дорогой Легар? — спросил он тихим, похожим на мурлыканье вкрадчивым голосом, падевая мягкую серую шляпу. — Очень рад, что вас встретил. Как видите, я ухожу. Тщательно одетого на английский манер Густавуса Нильсена каждый без малейшего колебания признал бы иностранцем. По рождению он был швед, по образованию и привычкам — гражданин мира. Сорокалетний мужчина среднего роста, он был крепко сложен, и голова его, увенчанная шапкой соломенного цвета волос, плотно сидела на широких плечах. Его бледное веснушчатое лицо покрывало множество мелких морщинок; один из глубоко посаженных карих глаз теплого желтоватого оттенка смотрел на мир через вставленный в глазницу монокль в золотой оправе; рыжеватые усы загибались вниз, к углам рта, как у моржа. Под мышкой швед держал белый в зеленую полоску зонт. Мужчины пожали друг другу руки и обменялись взглядами, в которых отразилась неприязнь, вызванная их инстинктивным соперничеством. — Как ваша «система»? — спросил Легар. Он решил, что это самая безобидная тема из всех, которые в тот момент пришли ему в голову. — Спасибо, неплохо, — ответил Нильсен; лицо его при этом было непроницаемо. — Очень неплохо, однако те, кто играют по какой-то «системе», никогда не говорят о ней — боятся сглазить, знаете ли. Кстати, как поживает ваша милая жена? Передайте ей от меня привет. Очень жаль, что мне не удалось с ней увидеться. Я только что заходил к миссис Трэвис и мисс Ли; боюсь, у меня нет больше времени. Жиль вздрогнул — он понял, что избрал неудачную тему. — Спасибо, но моя жена чувствует себя неважно. Я прощаюсь с вами, иначе вы пропустите из-за меня ваш поезд. — Прощайте, друг мой, — пробурчал Нильсен, раскрывая свой полосатый зонт, и неспешным, широким шагом двинулся по направлению к железнодорожной станции. Оставшись один, Жиль снова предался меланхолическому, благоговейному созерцанию закрытых зеленых ставней. Лучи полуденного солнца косо падали на террасу сквозь желтые ветви гигантской мимозы, перевесившиеся через перила; легкое дуновение ветерка со стороны необъятного безмятежного моря доносило до Жиля густой аромат роз и гелиотропов. Маленькие бурые ящерицы, гоняясь друг за другом, бегали вверх и вниз по гладким степам здания, бабочки и жужжавшие мошки кружились над каменным прямоугольником террасы и вокруг нее. Страсть настолько захватила Жиля, что он не замечал ничего вокруг. Стоило девушке один раз по-другому — чуть-чуть по-другому — пожать ему руку — и мир стал казаться ему иным. От природы инертный, умеренный в своих потребностях, себялюбивый, он начинал ощущать, что меняются самые основы его сущности. Это было так явно, так неожиданно, так странно! Когда это произошло, он посчитал естественным сменить мир солнечного света и мелодичных звуков, тонких ароматов и ярких красок, мир привычной обыденности, пассивного и скучного любования природой на другой мир, в котором были пронзительная острота желания, боль, наслаждение, полная поглощенность одной идеей и не существовало всего остального. Всю эту проведенную в Ментоне весну он привыкал к тому новому и восхитительному, что вошло в его жизнь. Точно так же он когда-то долго привыкал к солнцу и свежему воздуху, цветам и морю, ко всему прекрасному, что только было в этом дивном, живописном краю. Потом это стало частью его существа и уже не удивляло его; несмотря на свое английское происхождение, он смотрел на изумленных туристов со сдержанным, снисходительным недоумением южанина, для которого все красоты его чудесного края являются необходимым условием существования. Он принял еще одно воплощение Красоты как должное, не задумываясь, и наслаждался им день за днем. У него давно вошло в привычку воспринимать не размышляя и все остальное. Десять лет назад, когда ему было двадцать пять, он женился на польке благородного происхождения и вскоре привез ее, навсегда ставшую инвалидом, на Итальянскую Ривьеру. Они никогда больше не уезжали далеко от своей виллы — это было связано с слишком большими трудностями. Жена его постоянно болела; у нее были свои друзья, цветы, литературные занятия. Он же плыл по течению дней, вполне благополучных, однако медленно, по верно истощавших его жизненные силы и оставлявших после себя ощущение пустоты и скуки, которое с годами не ослабевало. У него почти не осталось связей с Англией. Его отец, занимавший в стране видное положение, погиб во время охоты; Жилю тогда было четыре года. Мать, красивая и добрая женщина, умерла, когда он оканчивал Итон; смерть ее оставила глубокий след в его сознании, усугубив свойственные ему замкнутость и скрытность. Даже с девушкой, которой он был так безгранично предан, он никогда не говорил о том, что его сильно волновало; казалось, способность к полному доверию у пего спрятана под спудом и приберегается для какого-то более глубокого душевного общения. В Оксфорде он завел множество друзей; он сдержанно выказывал им симпатию, но когда пришла пора подводить итоги, друзья вынуждены были признать, что не знают его даже в той степени, в какой знают друг друга юноши; он правился им, по остался непонятым. Когда он покинул Оксфорд, оказалось, что его не привлекает пи одна из профессий. Обладая значительным состоянием, он в силу своего характера неспособен был сделать над собой усилие, если его не побуждали к этому какие-то жизненные интересы или крайняя необходимость. Несколько лет он провел в путешествиях, обычно не имея других целей, кроме развлечения; потом женился. Впоследствии он никак не мог до конца уяснить себе, как это случилось; была дружба, влюбленность, сострадание, но вот прошло уже десять лет, как он связал себя узами с лишенным всяких целей существованием. Он находил себе какие-то занятия, к примеру изредка наезжал в Монте-Карло и немного играл, каждый год отправлялся охотиться в Алжир или в Марокко, подолгу плавал на яхте вдоль побережья. Но в жизни его не было работы, не было любви.. Они с женой никогда до конца не понимали друг друга. Он, разумеется, всегда был с нею вежлив и галантен, однако имелся в ней некоторый налет интеллектуальности, экспансивной шаловливости, который был ему чужд, поскольку дисгармонировал с его сумрачным, замкнутым характером, с глубоко укоренившейся в нем привычкой к праздности. Человек утонченный, лишенный низменных инстинктов, обладавший незаурядной способностью к логическому мышлению, Жиль все же каждый раз чувствовал себя в присутствии жены немного глуповатым, и это не могло его не раздражать. Он почти с самого начала осознавал, что брак его скорее всего был ошибкой, однако не переставал восхищаться личностью жены, ее мужеством и стойкостью перед лицом страдания, общительностью, остроумием и присущим ей шармом. Он понимал, что со стороны она кажется прелестной и привлекательной женщиной, но чувствовал, что она не та, которая ему нужна. Когда он пытался взглянуть на вещи с ее точки зрения — стремление к объективности вошло у него в привычку, — ему становилось ее жаль. Он все время обдумывал создавшуюся ситуацию. Это было в его характере, хотя и не доставляло удовольствия. Ирма никогда не любила его, иначе в нем вспыхнуло бы ответное чувство — он был человеком чутким и страстным. Как бы то ни было, он с благодарностью воспринял ее решение выйти за него замуж. Она сделала это по одной из тех бесчисленных причин, по которым выходят замуж женщины; любая из этих причин достаточно хороша, пока событие не совершилось. Разлад между супругами был нескончаем и неустраним. Он никогда не проявлялся открыто, не выходил наружу, но подспудно никогда не угасал. У Жиля вошло в привычку мириться с положением вещей, выработалось безучастное и апатичное отношение к жизни; однако сейчас, стоя на солнцепеке и разглядывая непроницаемые зеленые ставни, он понял, что оно для него но более надежная опора, чем соломинка для утопающего.Глава 2
Ранним утром в долине Ментоны слышалось кваканье лягушек. От неказистых домишек позади отеля плыл по всей округе терпкий ароматный дым — горели срубленные эвкалипты. Зеленые ставни раздвинулись, и в проеме балконной двери показалась фигура девушки. Она стояла слегка наклонив голову и держала перед собой срезанную с розового куста ветку. Когда она поворачивала ее то в одну, то в другую сторону, солнечные лучи, проходя сквозь бледно-желтые лепестки с оранжевой сердцевиной и листья с рыжеватыми прожилками, придавали наряду девушки какую-то цыганскую пестроту. Девушка балансировала на пороге балконной двери, слегка покачиваясь, как птица на ветке. Она была среднего роста и на редкость соразмерно сложена. От мягких волнистых темных волос, зачесанных назад от низкой линии лба и закрывавших кончики маленьких ушей, до самых щиколоток, выглядывавших из-под легкого платья с причудливым рисунком, — все в ней изобличало породу — то, что отличает чистокровного арабского скакуна от английской лошади даже самых лучших кровей, нечто неотъемлемое, складывавшееся веками, присущее отпрыскам древних народов — цыганам, арабам, персам; то самое, что определяет неповторимость облика и «стиля». Овальное лицо девушки было отмечено печатью уныния и даже грусти, как у человека, вступившего в борьбу с роком и сраженного им. Такое выражение часто встречается на лицах восточного типа и очень редко — у европейцев. Бледность ее лица имела едва заметный смуглый оттенок, быть может, говоривший о том, что в жилах ее течет цыганская кровь. Быстро осмотревшись своими большими карими глазами из-под слегка изогнутых темных бровей, девушка улыбнулась, и линия ее губ искривилась, а в углах рта образовались две маленькие ямочки. Потом девушка с наслаждением вдохнула аромат эвкалипта и сладко потянулась, как греющийся на солнце котенок. Теперь с лица ее исчезли следы уныния; оно стало воплощением самого света, самой жизни. Слегка кивнув Жилю, она нагнулась и похлопала по загривку борзую. — Малы-ы-ш, — протянула она нежно, слегка пришептывая, как обычно разговаривала с животными, к которым привыкла, — хочешь свой люби-имый пирог? Я дам ему пирога, Жиль. Она зашла в комнату и вернулась с двумя большими кусками пирога. Когда пес принялся их уплетать, девушка засмеялась и бросила одобрительный, умиротворенный взгляд сначала на него, потом на Жиля. — Ми-и-лый малыш! Как он любит сладкое! Жиль не двигался; он стоял, прислонившись к стене, заложив руки в карманы, и щурился от солнца, светившего ему прямо в глаза. — Чудесный день сегодня, правда? — воскликнула девушка. — Как жаль, что придется ехать в Монте-Карло и торчать в этом душном казино! — Разве обязательно туда ехать? — спросил он. — Мы могли бы пойти погулять. Джослин сорвала желтую ветку мимозы и поднесла ее к розам, чтобы проверить, гармонируют ли цветы друг с другом. — К сожалению, обязательно, — ответила она. — Тетушка просто сгорает от желания туда попасть, но одна она не поедет. Бедняжка хочет попробовать еще одну «систему», она штудировала ее все утро, хотя так и не поняла до конца; впрочем, это неважно — вы же знаете, она всегда отказывается от них в самый ответственный момент. Поедете с нами? Мистер Нильсен сказал, что будет ждать нас в саду. Жиль стиснул зубы. — Да, пожалуй, поеду, — отозвался он. Джослин наклонила голову к розам и глубоко вдохнула их аромат, потом подошла к перилам террасы. Она стояла теперь спиной к Жилю и глядела вниз, на белые домики и запущенные сады, где растения боролись за место под солнцем и, не признавая никаких границ, буйно разрослась яркая зелень. Потом, не оборачиваясь, девушка положила руку на запястье Жиля и потянула его за рукав: — Смотрите! Какое запустение! Пожалуй, мне нравится этот беспорядок, в нем хоть есть что-то живописное. Жиль вздрогнул, когда она коснулась его; он подошел к ней вплотную и через ее плечо посмотрел туда, где беспорядочно чередовались разноцветные дома, зеленая листва и пестрое тряпье, а вдалеке синело море. Трепеща от наслаждения, он ощутил прикосновение ее плеча.. — Что за детская любовь ко всему яркому! — воскликнул он. — Вам до такой степени правится юг? — Очень нравится, — ответила она, слегка вздохнув. Ладонь ее то сжималась, то разжималась, что девушка привыкла делать в минуты раздумья. — Меньше всего меня волнуют люди. Я не имею в виду местных жителей — их я не знаю. Я говорю о завсегдатаях отелей. Почти всю жизнь я провела за границей, по эти люди всюду одинаковы, куда бы ты ни попал. Здесь они даже хуже, чем в других местах, — ведь неподалеку Монте-Карло. — Меня вы тоже к ним относите? — осведомился Жиль. Девушка дружески потянула его за рукав. — Конечно нет! Вы другой, у вас нет ничего общего с иностранцами. Она чуть повернула голову и посмотрела на него. — Несмотря на вашу праздность, вы всегда серьезны. Вы не можете не быть англичанином до мозга костей. — М-да, — слабо улыбнувшись, произнес Жиль, — приятно услышать, что ты всегда серьезен, правда, Шика? Он нагнулся и слегка щелкнул собаку по носу. — А вы, Джослин, — спросил он, — что вы скажете о себе? Она нетерпеливо повернулась, и выражение обреченности, никогда не покидавшее надолго ее лица, появилось вновь. — Иногда я серьезна, а иногда и нет, — медленно проговорила она. — У меня все «иногда», вы же знаете. Я плыву по течению. Бурая ящерица пробежала по перилам почти под со пальцами. Глаза девушки нежно засветились. — Милая маленькая зверюшка! — воскликнула она. — Хотела бы я быть ящерицей, Жиль, греться целыми днями на солнце, никогда не знать никаких забот, ни с кем не ссориться. Жиль, заложив руки в карманы и выставив вперед подбородок, смотрел на нее голодным взглядом. — Из вас получилась бы славная маленькая ящерка, вы ведь так проворны, — сказал он сквозь зубы. — Возможно, очень даже красивая ящерка. Ему пришлось придумать что-то смешное, чтобы скрыть нежность, прорывавшуюся в его голосе. Девушка засмеялась; лицо ее в такие минуты чудесным образом смягчалось, в углах рта появлялись маленькие ямочки. Потом она вздохнула: — Ох, друг мой, должно быть, нам пора ехать. Я с гораздо большим удовольствием осталась бы с тобой, Шика. Борзая, казалось, поняла ее слова и дружелюбно облизала ей руку влажным языком. — Ирма хочет повидаться с вами. Не зайдете ли к ней на минутку? — с трудом выдавил из себя Жиль. — Конечно, зайду. Джослин быстро пересекла террасу и подошла к балконной двери. Жиль, все еще опиравшийся на перила, провожал ее взглядом. Она тихонько постучалась в стекло и вошла в комнату… Какой-то странный контраст составляли две женщины в этой мрачной, зашторенной комнате, куда сквозь закрытые ставни пробивался тонкий луч света, — статная темноволосая девушка в желтом платье, стоявшая в грациозной позе и осторожно покачивавшая в руках букет роз с тонкими лепестками, и лежавшая на кушетке скрюченная больная женщина в белых одеждах, вся жизнь которой сосредоточивалась в ее глазах, черных глазах с тем особым скорбным выражением, что иногда встречается у обезьян; в глазах этих горела неугасимая вера мучеников, они были не похожи на глаза большинства людей, у которых они всегда светятся, всегда выразительны. Резкое различие во внешности дополнялось несходством одного ума, способного управлять эмоциями, и другого, не способного на это. Несмотря ни на что, женщины питали друг к другу большую симпатию, хотя внешне она проявлялась весьма сдержанно. Ирма откровенно, с экзальтацией восхищалась красотой и грациозностью девушки; Джослин же не могло не привлекать остроумие старшей подруги, и она искренне переживала, что та так страдает. Они получали удовольствие от общения друг с другом, несмотря на то что за два месяца, проведенные в одном отеле, не так уж часто виделись. Вилла Легаров была в пяти милях от отеля, но Ирма всегда проводила зиму в Ментоне, чтобы быть поблизости от своего доктора. Джослин наклонилась над кушеткой и положила желтые с шафранной сердцевиной розы на лиф белого платья больной. — Как мило с вашей стороны, что вы принесли мне их, — прозвучали тихие слова, отрывисто произнесенные по-английски с едва заметным иностранным акцентом. — Очень рада вас видеть; боялась, что вы не сможете зайти сегодня, я ведь собираюсь уехать, знаете? Жиль, наверное, говорил вам? — Ирма засмеялась почти весело. — Моя свобода зависит от доктора Ламотта; я прошла уже весенний курс лечения, и сейчас он, похоже, больше ничего не сможет для меня сделать. Так что могу вернуться на мою маленькую виллу, к моим цветам, книгам и певчим птицам. Я здесь так скучаю по ним. Mon Dieu![18] Как я по ним скучаю! Так что завтра я уезжаю, но вы ведь навестите меня, правда, Джослин? Это недалеко, вы, наверное, знаете; всего пять миль. Я попрошу Жиля заехать за вами. — Конечно, я навещу вас. Мне очень хочется взглянуть на виллу. Но как жаль, что вы уезжаете! — В самом деле? В этих словах прозвучала легкая насмешка, но Ирма ласково взяла девушку за руку. — Я не стану приглашать вашу дорогую тетушку — у нас ведь, как вам известно, пет рулетки, так что, боюсь, ей будет там скучно. Я попрошу Жиля, он заедет за вами. Не знаю, поедет ли он со мною, возможно, что и нет. В ее голосе и в пристальном взгляде черных глаз, прикованном к Джослин, снова промелькнула насмешка. Девушка медленно залилась краской — ее тонкое чутье подсказало ей, что в этих словах было что-то враждебное, хотя она и не поняла, что именно. Раздался негромкий стук в окно. — Это тетушка, — воскликнула Джослин. — Боюсь, мне пора идти. Мы едем в Монте-Карло. — Прощайте, Джослин. Вы поцелуете меня? — она бросила на девушку взгляд, полный нежности и восхищения. — Как вы милы сегодня! Джослин наклонилась и поцеловала ее. — Прощайте. Как жаль, что вы так плохо себя чувствуете! Может, мне остаться с вами? — Mon Dieu! Нет! Ваша дорогая тетушка, без сомнения, будет без вас скучать. Вам надо немедленно идти. Bonne chance[19]. Вы ведь заедете навестить меня? — Обязательно, — ответила девушка. Когда, выходя на террасу, она бросила на Ирму прощальный взгляд, на лице ее отразилось беспокойство. На террасе виднелась объемистая фигура дородной и прямой как палка миссис Трэвис, одетой в легкое серое шелковое платье и укрывавшейся от солнца под черным зонтиком. Она занимала собой немалый кусок пространства. На ней были огромные ботинки и весьма модная шляпка. Суть натуры этой дамы можно было бы выразить словами «материальное благополучие». Стремление его упрочить неосознанно стало для нее чуть ли не религиозным культом, хотя она ни за что бы не признала этого. Пятидесятилетняя женщина с тонкими, сильно вьющимися, постепенно седевшими волосами и зелеными, с карим оттенком глазами, она отличалась полнокровием. Ее нельзя было назвать высокой, хотя она и производила такое впечатление — так величественно она держалась. То было величие людей старой пуританской закваски, величие непоколебимости. Она не придерживалась каких-то принципов, или, вернее, они всегда определялись тем, что ей было выгодно в данную минуту. Укоренившиеся с детства религиозные предрассудки — результат пуританского воспитания — удерживали ее от того, чтобы ходить по воскресеньям в местную церковь, хотя ей очень хотелось этого. Она была увлечена игрой, играла страстно и суеверно, получая от игры острое наслаждение, однако не переносила людей, хоть отчасти догадывавшихся об этом. Проигрывая, она винила в этом банкомета, проигрыши свои переживала как физическую боль, с воспитанным в ней с детства стоицизмом, и ожидала такого же, даже большего стоицизма от племянницы. Она в совершенстве владела искусством уклончивых намеков, хотя и не сознавала этого. Если добраться до нутра русского человека, обнаружишь там татарина; точно так же, если проникнуть в глубь любого человеческого существа, найдешь зверя; разница между людьми лишь в том, насколько глубоко он там спрятан. Что касается миссис Трэвис, здесь не было нужды забираться вглубь — при первом же взгляде выявлялось ее сходство с большой персидской кошкой. Своими быстрыми яркими глазами она замечала многое, но все это не проникало под оболочку, скрывавшую ее мыслительные способности — если они вообще под пей имелись. У нее было хорошее природное чутье, но не было логики. Часто слышали, как она говорила племяннице: «Ты должна думать о людях, дорогая». Она и сама следовала этому правилу — постольку, поскольку это согласовывалось с ее собственным удобством. Подобные нравоучения благодаря близкому ее родству с девушкой часто сходили ей с рук; если же нет, она принимала возвышенную позу мученицы и потом долго дулась. В остальном она была полностью лишена того, что называют «внутренним миром»; любила выказывать гостеприимство; будучи бездетной вдовой, хорошо одевалась и часто ездила по магазинам; коллекционировала серебро. Все то, за что она бралась, делалось основательно и расчетливо. Она не была говорлива, но любила всласть посмеяться; обидевшись, надувала губы. Это она сделала и сейчас, говоря Джослин: — Мы опоздаем на поезд, дорогая моя. Нам надо играть до обеда — ты же знаешь, после обеда мне никогда не везет. Она взяла девушку под руку и стала спускаться по ступеням террасы, Жиль шел следом, без всякой надежды на успех пытаясь найти хоть какую-то сообразность между ее шляпкой и ботинками. Он всегда стремился постигнуть суть людей, но миссис Трэвис оказалась для него крепким орешком.Глава 3
Мать Джослин Ли умерла в родах. Девочка была единственным ребенком и с самого рождения стала предметом поклонения, чуть ли не кумиром отца, армейского офицера. Вскоре после смерти жены он вступил во владение небольшой усадьбой и, оставив службу, переселился туда. Зимой он охотился, весной и летом жил в Лондоне или ездил с визитами к соседям-помещикам, иногда взяв особою Джослин. Девочка росла почти в полном одиночестве, людей видела реже, чем лошадей и собак, образованно получила весьма бессистемное и отрывочное. Она была живым, подвижным ребенком и приводила то в восторг, то в отчаяние своих гувернанток, которые тем не менее души в ней не чаяли. Им однако приходилось расставаться с нею как раз тогда, когда начинали сказываться результаты их труда, потому что майор Ли увозил дочь с собой. Эта пухленькая проказница, не способная ни минуты усидеть на одном месте, постепенно становилась все более задумчивой и печальной и наконец превратилась в стройную, чувствительную, легко ранимую девушку, хрупкую, как нежный цветок, избегавшую всего вульгарного и уродливого, любившую животных и инстинктивно не доверявшую людям. Когда Джослин было девятнадцать, скончался ее отец, оставив ее независимой, но очень одинокой. За неимением лучшего он поручил девушку своей сестре, к которой питал некоторую привязанность, хотя и был о ней весьма невысокого мнения. Две женщины, совершенно разные по своему складу, неплохо ладили друг с другом — то ли потому, что никогда не оставались подолгу в одном месте, то ли по той причине, что ни одна из них даже не пыталась понять другую и не требовала от нее слишком многого. Почти все четыре года, прошедшие после смерти майора Ли, они провели за границей — в Италии, Испании, Германии, а в основном — в Париже, к которому миссис Трэвис питала особую любовь, поскольку обзаводилась там туалетами. Джослин терпеть не могла однообразия серого неба над Англией. Ее тянуло в те края, где всегда светит солнце, где яркие краски радуют глаз, где жизнь вокруг, кажется, так и кипит. От матери, семья которой традиционно вела подвижный образ жизни, она унаследовала беспокойный, переменчивый характер, заставлявший ее постоянно странствовать и обрекавший на вечную зависимость от перепадов настроения. Она умела жить настоящей минутой, что выдавало в ней натуру, крайне чувствительную к внешним влияниям и к собственному самочувствию. Контрастные свойства ее характера проявлялись в одинаковой степени, подобно отклонениям маятника от точки равновесия, — они уравновешивали друг друга на весах ее разума. Джослин поняла, что это не зависит от смены настроений, и не пыталась управлять своими порывами или хотя бы сдерживать их, а только лишь мысленно их оценивала с печальной терпимостью, пессимистичной проницательностью и склонностью сочувствовать самой себе. Такое сочувствие она распространяла на всех окружающих — ей нравилось симпатизировать людям и вызывать у них ответную симпатию. Это придавало девушке немалую привлекательность, которую не умаляла свойственная ей гордость, не позволявшая что-либо просить у Бога или у людей. Она ни разу в жизни не шевельнула пальцем, чтобы привлечь внимание окружающих или вызвать у них восхищение, но все же без этого она сникала, как цветок без воды… Когда поезд по дороге в Монте-Карло сонно загудел, Джослин наклонилась к мутному от пыли окну вагона, чтобы взглянуть на излучину залива между мысом Мартина и Рокебрюном. Она непроизвольно улыбнулась, увидев блеск солнечных лучей, отраженных голубым зеркалом безмятежных морских вод, маленькие, пушистые белые гребешки волн, мелькнувшие за хвостом их поезда на изгибе пути отвесные, поросшие соснами скалы и маячившие впереди на вершине скалы три пальмы, напоминавшие часовых. Жиль сидел напротив девушки, изучая ее лицо из-под полуопущенных век. Однажды она случайно коснулась его колена своим, и тогда лишь присутствие миссис Трэвис, дородной, откинувшейся назад на своем сиденье со сложенными на животе руками и стрелявшей по сторонам своими зелеными глазами, подавило возникшее у него безумное желание стиснуть девушку в объятиях. Все остальное время до самого их прибытия он размышлял, заметила ли она это прикосновение. В саду они увидели Нильсена, сидевшего в тени перечного дерева. Он курил сигарету и задумчиво наблюдал за похожим на греческую статую мужчиной и робким мальчиком, как будто сошедшим с какой-нибудь картины Жана-Франсуа Милле[20]. Этим двоим, должно быть, поручили разровнять кучу земли, которая высыпалась из телеги, запряженной весьма интеллектуального вида мулом. Впрочем, это могло быть и не так, потому что оба абсолютно ничего не делали. Нильсен приветствовал дам с витиеватой учтивостью; он был записным поклонником Джослин. — Взгляните на этого человека, — произнес он меланхолически, указывая на «статую». — Что за бессмысленная вещь цивилизация! Я рассказывал вам, что, путешествуя в Южных морях, встречал множество энергичных островитян, к тому же совсем чистых, только перемазанных пальмовым маслом, которое почти что мыло. Посмотрите-ка на эти позы! Какая прелесть! За четверть часа он, облокотившись на лопату, принял шесть разных поз, одна живописнее другой, а сейчас собирается идти за выпивкой. Когда «статуя» удалилась, оставшийся в одиночестве мальчик с картины Милле стал добросовестно ходить ленивой и неуклюжей походкой вокруг кучи земли. — Самый настоящий фиджиец, если не считать одежду и немытое тело, — продолжал Нильсен. — Однако мы все же называем его цивилизованным человеком, а островитянина — дикарем, так ведь? Все это, в сущности, дело привычки. Он с мрачным видом смахнул пыль со своих штиблет шелковым носовым платком. Люди обычно думали, что Нильсен манерничает; на самом же деле это было не так — просто английские манеры были в нем как бы привиты на иностранные. Он казался циником, а в действительности был добросердечен; выглядел сдержанным, но был вспыльчив; производил впечатление человека, подлаживающегося под окружающих, а на самом деле был оригинал. Он происходил из хорошей семьи, но в свои сорок лет не был избалован фортуной. В последнее время он жил на доходы от игры по «системе». Характерным для него было то, что он ухитрился сделать из этого источник доходов и не так уж плохо жил. По этой причине многие люди, хотя и игравшие сами, избегали его, забывая, что зарабатывать на жизнь подобным образом можно, лишь имея терпение и самообладание, отсутствующие у девятисот девяноста девяти человек из тысячи. Всей компанией они направились через сады к казино. Сады в Монте-Карло, разбитые вокруг казино, чем-то неуловимым отличаются от всех остальных. Они не поражают великолепием — многие другие превосходят их в этом, однако свойственна им какая-то тонкая, изысканная порочность; здесь как будто витает дух соблазна. Они насквозь пропитаны запахом, едким, манящим, проникающим всюду запахом множества не знающих удержу людей. В этой совершенно неестественной обстановке человек, должно быть, возвращается к первобытному состоянию, становится подвластным таинственным законам, на которых зиждется наш мир, начинает охотиться за страусом цивилизации, прячущим свою гордую, полную благих намерений голову в песок в попытке укрыться от глаз своих вечных неумолимых преследователей. Вскоре они подошли к дверям казино. Миссис Трэвис шествовала чуть впереди остальных, вполне уверенная в высоких качествах своего наряда и надувшая губы в сладостном нетерпении. Джослин, рассеянная, немного скучавшая, шла рядом с Нильсеном, который вяло пытался развлечь ее разговором. Жиль уныло плелся сзади. Впереди какой-то странной подпрыгивающей походкой шли двое англичан. Нильсен с мрачным видом тихонько прошептал на ухо Джослин: — Взгляните, эти только пр-р-иехали, у них типичная для Монте-Кар-р-ло походка — два шага, потом шар-р-канье. Все вы, англичане, ходите так, когда попадаете сюда в пер-р-вый раз. Сухой воздух, знаете ли. Джослин прыснула со смеху и что-то тихо ему ответила. Жиль, не расслышавший, о чем они шептались, внезапно ощутил жгучую боль; он сильно побледнел и приостановился, немного отстав от остальных. Джослин, поднявшись по ступенькам, обернулась и посмотрела на него. Через открытую дверь из музыкального салона казино доносилась негромкая мелодия. В холле и в коридорах туда-сюда сновали люди; они передвигались на цыпочках, немного напоминая зверей в зоопарке. То и дело кто-нибудь из них нырял обратно в игральные залы. Там, внутри, горел тусклый свет, слышалось глухое металлическое звяканье, ощущался легкий запах пачулей. Люди перемещались из комнаты в комнату и вокруг столов, поодиночке или группами по двое и по трое; при этом они тихо переговаривались. Каждый стол был окружен множеством человеческих лиц; бдительные крупье, восседавшие во главе и по бокам столов, неустанно, хотя и апатично пасли это стадо. Их лопаточки со звоном сгребали монеты по зеленому сукну; то и дело с одного или с другого места к расписному своду потолка взлетали вздохи: «Rien n’va plus»[21]. Бесконечный поток зрителей походил на огромную гусеницу, пробиравшуюся между игроками. Лица последних в большинстве своем были багровыми. Здесь не звучал смех. Со стен на игроков бесстыдно взирали нагие нимфы. Свободных банкеток не было, люди сидели на них, праздно болтая друг с другом или уставившись перед собой в одну точку. Время от времени за одним из столов раздавалось жужжание голосов и, перейдя затем в невнятное бормотание, затихало вновь. Миссис Трэвис, всегда избиравшая рулетку, потому что интенсивная циркуляция ее денег доставляла ей удовольствие, облюбовала стол и дождалась, пока освободится место рядом с доброжелательным стройным австрийцем-крупье, которого она давно уже приучила, любезно обмениваясь с ним дурно произнесенными «Bonjours»[22], наблюдать за перемещениями ее ставок. Усевшись, она привычно положила на стол рядом с собой портмоне, веер и платок, затем вынула карандаш и блокнот, чтобы отмечать выигравшие номера. Губы ее бессознательно шевелились, взор беспокойно блуждал от стола к блокноту и обратно; временами она бросала быстрые взгляды на сидевших рядом игроков; казалось, она замечает все. Она аккуратно записывала свои ставки и справлялась с предыдущими записями, крутила в руке монеты перед тем, как их поставить, иногда забирала ставку обратно в самый последний момент. Проигрывая, она хмурилась, выигрывая — улыбалась, совершенно не сознавая, что в выигрышах этих нет никакой ее заслуги. Во время игры лицо ее бледнело, морщины углублялись; словом, проявлялась самая основа ее сущности — черты завзятого игрока. Совсем по-другому вела себя Джослин. Она заняла первое же освободившееся место. Веки ее опустились, подбородок приподнялся, на лице, словно маска, застыло безразличное выражение. Она небрежно двигала лопаточкой — поставленные монеты и так же равнодушно придвигала их к себе, когда выигрывала. Она развивала свой успех и прерывала полосу неудач с беспечностью человека, участвующего в игре лишь потому, что это делают окружающие. Жиль, занявший место за тем же столом, лихорадочно ставил на каждый кон. Он все время смотрел на Джослин. Выиграв порядочную сумму, он сунул деньги в карман и сделал движение по направлению к девушке, но, не дождавшись от нее одобрительного знака, снова сел на место и продолжал играть, пока не проиграл все, что у него было с собой. Тогда он со вздохом облегчения поднялся и, обойдя стол, встал за стулом Джослин так близко к спинке, что то и дело касался рукавом ее плеча. Играя, он хотел отвлечься, но этого ему так и не удалось. Нильсен сел к заранее выбранному столу и стал наблюдать за игрой. Он выглядел печальным и отрешенным. Затем он начал играть, сверяясь со схемами, которые держал в руке, и с затверженными на память сочетаниями цифр; он ждал, когда можно будет применить какую-нибудь комбинацию. Ставки он делал редко, довольствуясьпятипроцентной прибылью к затраченным суммам. Вскоре кто-то присвоил себе его ставку; он посмотрел на этого человека, намного задетый, но ничего не сказал. Несколько минут спустя та же участь постигла его соседа, и он тотчас вступился за него. Он клеймил позором нарушителя, обличал крупье, навлек на себя бурю возмущения игроков; лицо его побелело, глаза налились кровью, он продолжал упорствовать и наконец добился своего, после чего сразу стал еще более печальным и отрешенным. Остальное время он играл спокойно, являя собой истинное воплощение делового человека. Вскоре вся их компания покинула зал, оставив Нильсена поджидать очередную верную комбинацию. Когда Джослин проходила мимо его стула, он отклонился назад и, повернув свою чрезвычайно короткую шею, прошептал трагическим тоном: — Çа ne va pas, се soir[23]; я жду и жду, но хлеб с маслом не дается мне в р-р-руки, а теперь еще вы уходите, это, знаете, совсем сквер-р-но. Ему тут же пришлось повернуться обратно, чтобы успеть записать в блокноте выпавший номер. Джослин, оглянувшись, подумала, что он чем-то похож на холеного моржа, поджидающего у проруби появления рыбы. Миссис Трэвис, игравшая по новой системе с полным непониманием того, что делает, лишилась всех своих денег; затем, одолжив оставшиеся у Джослин, проиграла и эти. Она покидала залу, исходя злостью, прямая как палка, обиженная на своего крупье, которого считала способным предугадывать выпадающие номера, и убежденная, что если бы у нее было при себе больше денег, она обязательно осталась бы в выигрыше. Она шепотом отчитывала Джослин за то, что та не взяла с собой более крупную сумму, чтобы одолжить ей. На обратном пути разговор не клеился. Быстрые зеленые глаза миссис Трэвис, казалось, выискивали кого-нибудь, на ком она могла бы выместить раздражение; Джослин устала; Жиль был мрачен. Когда они подошли к отелю, он мягко коснулся рукава девушки и спросил: — Вы знаете, что мы завтра уезжаем? — Да, — ответила Джослин. — Мне так жаль. Она остановилась, и на щеках ее выступил слабый румянец. — Мне будет очень не хватать наших прогулок. А Шика — бедный малыш, как он обойдется без своего угощения? Вы не забудете давать ему пирог после завтрака? — Нет, — коротко ответил Жиль. — Я буду привозить его за ним к вам. — О! — воскликнула она, рисуя на земле круги концом своего зонтика. Жиль, высокий и стройный, стоял перед ней, держа в руках шляпу; лицо его выражало глубокую печаль. Джослин бросила на него быстрый взгляд и с улыбкой протянула руку. — Мы с тетушкой обедаем сегодня не дома, — сказала она. — Боюсь, мы больше не увидимся с вами. Прощайте, Жиль. Он взял ее руку и несколько мгновений удерживал в своей, пристально вглядываясь в лицо девушки; затем отпустил руку и стоял неподвижно, пока Джослин поднималась по ступенькам на террасу. Вот она обернулась, и он еще раз увидел в профиль ее усталое, грустное тонкое лицо, полускрытое широкими полями шляпы.Глава 4
Рано утром следующего дня супруги Легар покинули Ментону — Ирме необходимо было проехать отделявшие их от виллы пять миль в утренние часы, до наступления полуденного зноя. Жилю так и не удалось больше увидеть Джослин; он, сколько мог, оттягивал отъезд, но девушка так и не появилась. В экипаже он сидел напротив жены молча и с виду спокойно, но в груди его кипели возмущение и отчаянье. Он проявлял о жене величайшую заботу, ежеминутно взбивал ее подушки и заставлял кучера править с предельной осторожностью. Они доехали благополучно. Жиль надеялся, что в домашней обстановке сможет хоть немного отвлечься от своих мыслей. Оказалось, однако, что все окружающее приводит его в бешенство, напоминая о вставшей между ним и Джослин преграде. Каждый день он сотни раз спрашивал себя, что он делает? что собирается сделать? — и не находил ответа. Его совесть, здравый смысл, темперамент — как бы ни называлось то, что боролось в его душе со страстью, — умерили в нем чувство протеста. Он пытался занять свои мысли чем-нибудь другим, каждый день находил себе массу дел — ездил верхом, гулял, занимался домашними делами. В эти дни он был особенно внимателен к жене, но все время ощущал: она знает, что творится у него в душе. Все его усилия были напрасны — лицо Джослин неизменно стояло у него перед глазами. Он написал ей письмо, в котором говорилось, что неотложные дела призывают его в Геную. Потом он отправился туда, напрасно прождал два дня и вернулся в еще большем отчаянии, чем прежде. Так он провел первую педелю после отъезда из Ментоны. Джослин скучала без него — за эти два месяца она успела привыкнуть к его обществу. До его отъезда ей не приходило в голову, что именно он помогал ей развлечься. Без Жиля и его борзой она чувствовала себя потерянной. Он казался ей совершенно не похожим на всех тех людей — немцев, французов, поляков, русских, — с которыми она знакомилась во время путешествий. Они танцевали с ней, катались верхом, осыпали комплиментами и даже делали предложения, но несмотря ни на что, она не доверяла им со свойственным ей инстинктивным недоверием к людям. С самого начала у нее возникло ощущение, что она понимает Жиля. Причина заключалась не в том, что он был ее соотечественником; скорее, здесь вообще отсутствовала какая-либо видимая причина, однако с ним ей было хорошо. Приятно было найти человека, так же, как она, любившего солнце, цветы, музыку, горячий ароматный воздух, звуки чужой речи при ярком свете дня и шепот бездонного моря под звездным ночным небом; знать, что рядом есть кто-то, кто все это чувствует и живет этим, человек, для которого это не просто ингредиенты физиологического наслаждения, как для ее тетушки… Когда он уехал, она иногда, гуляя по саду, привычно складывала губы трубочкой в беззвучном свисте, каждую минуту ожидая, что из-за кустов появится поджарая фигура Шикари, и борзая, выгибая спину, ленивой трусцой подбежит к ней по траве, чтобы лизнуть руку. Ей казалось также, что вот-вот она увидит в саду Жиля, сидящего, скрестив ноги, на солнцепеке в надвинутой на глаза панаме. Порой, когда она одна или с тетушкой сидела в комнате, ей чудился запах его сигар; она подходила к окну и выглядывала на террасу сквозь щелку между ставнями. Она перестала ходить на прогулки — в одиночестве это было скучно, не ездила больше в Монте-Карло. Уединившись, она много музицировала, но оказалось, что ей не хватает грустного взгляда Жиля и его привычки, подойдя к ней сзади и дотронувшись до ее плеча, просить: «Сыграйте это еще раз». Ей нужен был кто-то, кому нравилось бы то, что она исполняет. Когда некому было оценить, хорошо она играет или нет, пропадала всякая охота садиться за фортепиано. Получив его записку, она была удивлена и немного обижена — не новостями, которые там содержались, а тоном — он показался ей таким холодным и официальным! Она села за стол я написала ему дружеское письмо, затем, повинуясь внезапному ребяческому капризу, порвала его и вместо этого написала Ирме, рассказывая, как ей хорошо живется. Через неделю после отъезда Жиля они с тетушкой оказались на вечернем приеме, который давала некая немецкая баронесса в отеле на восточном побережье залива. Анфиладу душных комнат переполняла разноязыкая толпа; разговоры и смех сливались в неумолчный гул. Большинство присутствующих обсуждали состояние здоровья — своего и своих знакомых; немецкий профессор, сидя за роялем, то и дело надавливал на клавишу, чтобы проиллюстрировать какой-нибудь свой аргумент; жирный коричневый пудель без устали ходил на задних лапках по комнате, выпрашивая сладости; в углу двое русских с окладистыми бородами приглушенными голосами обсуждали «систему»; пожилая английская леди, флегматично поедая мороженое, жаловалась на зубную боль епископу из колоний, стоявшему с прижатой к животу шляпой. Остальные с отсутствующим видом вышагивали по гравиевым дорожкам сада; они нюхали цветы и все время оборачивались, чтобы обозреть новоприбывших. Здесь, без преувеличения, было представлено все собравшееся в отелях Ривьеры общество. Миссис Трэвис, усевшаяся в самом прохладном углу комнаты и обмахивавшаяся веером, приняла несколько необычную для себя позу — сильно наклонилась вперед. Она внимала откровениям худосочного помощника приходского священника в надежде пополнить свои познания в искусстве. Не имея собственных взглядов, она считала нужным соглашаться со всем, что он говорил, а ее быстрые глаза тем временем вбирали максимум информации о нарядах и внешности ее соседей. В душе она потешалась над ним, но он был весьма польщен, считая, что его высоко оценили, и даже принес ей вскоре чашку чая. В центре комнаты группка людей собралась вокруг Джослин; двое из них что-то страстно ей втолковывали, употребляя тяжеловесные, неуклюжие фразы, — оба были немцы. Джослин почему-то особенно очаровывала немцев; их тянуло к ней, как мух на мед. Один из них говорил ей обычно: «Ах! Ви так много любит этот комбозитор, да?» Другой (одновременно): «Ах! Он имеет шувзтво, бравда?» И Джослин всякий раз приходилось придумывать, как убедить каждого из них, что она ответила первым именно ему. Она не старалась произвести на них впечатление и желала лишь не задеть их чувства. Ее подвижное, несколько загадочное лицо казалось им очаровательным; картину дополняли ее грациозность и элегантный наряд. Джослин то и дело поворачивалась ко второй даме в их группке, пытаясь вовлечь ее в разговор. Как ни странно, девушка казалась обворожительной и ей, потому что обладала редко встречающимся у красивых женщин даром не вызывать зависть у других представительниц прекрасного пола. Немцы упрашивали ее поиграть; когда она повернулась к роялю, взгляд ее упал на фигуру Жиля, стоявшего снаружи, за балконной дверью; он заложил руки в карманы и смотрел на нее. Девушка сделала резкое, хотя и едва заметное движение и села за инструмент, внезапно покрывшись испариной. Она стала торопливо перелистывать ноты; почему-то ей казалось, что она должна прятать от людей глаза. Вот она заиграла мазурку Шопена; немецкий профессор, наклонившись вперед, с восхищением смотрел на девушку сквозь свои дымчатые очки. Закончив, она встала и под всплеск аплодисментов сказала: — Слишком жарко, трудно играть. Отойдя от рояля, она направилась к стулу, вызвав внезапное беспокойство у окружавших ее людей. Она размышляла, почему Жиль не хочет подойти и поговорить с нею. Последовавший за ней немецкий профессор заговорил о композиторах; Джослин, покачиваясь на стуле, вяло слушала его, взгляд ее в это время был прикован к окну. Высокая красивая девушка в розовом платье разговаривала с Жилем, тот слушал ее с улыбкой. Джослин недоумевала, кто же эта девушка, и невпопад отвечала на замечания профессора. Она заметила мелькнувший за стеклами его очков удивленный взгляд и со свойственной ей стремительностью собралась с мыслями. Однако когда Жиль снова заговорил с девушкой, Джослин опять стала смотреть на балконную дверь. Жиль, слегка наклонившись вперед, отвел в сторону занавеску, чтобы пропустить свою спутницу. Джослин почувствовала испуг, как будто случилось что-то неожиданное и неприятное. — Und Schubert[24], - говорил немецкий профессор, — как wunderschön mit[25] его брелездные мелодии, nicht wahr[26]? — Ах! — ответила она коротко, потупив взор. — Я вовсе не люблю его, он чересчур слащав. Раздражение, прозвучавшее в этих словах, удивило ее саму. Вновь подняв глаза, она перехватила взгляд Жиля, на мгновение остановившегося в проеме балконной двери, и почувствовала, будто что-то передалось ей от него в этом взгляде. Не смотря на него больше, она знала теперь, что он пробирается сквозь толпу к ней, и на щеках ее начал медленно проступать румянец. Она не переставая дергала за нитку, торчавшую из подола ее юбки, и лихорадочно что-то говорила. Когда Жиль подошел, она с улыбкой протянула ему руку; он молча взял ее ладонь в свою и встал рядом с девушкой, не вступая в беседу. Она внезапно почувствовала облегчение и принялась весело болтать с профессором. Они обсуждали колорит Ривьеры, Профессор, невысокий бородатый человек с красным лицом и голубыми глазами навыкате, утверждал, что колорит этот слишком ярок. — В нем нет души, нет шувзтва, nicht wahr? — говорил он. — Когда ви видит взё зразу — это не есть интерезно. — Ах! Но всегда видеть солнце, чудесное голубое небо — что может быть лучше этого, герр Швейцер? Кроме того, здесь есть и оливы — разве в них нет души? — Эти оливы, они такие незуразные, как фрак на итальянзский крезтьянин. Я больше люблю бейзаж mit зозновый лес und текущая река and видеть звери и женщины бозреди боля. — Да, мне тоже нравится все это, но лишь на юге у меня возникает ощущение, будто я прожила здесь всю жизнь. — Ach! Mein fräulein[27], ви англишапка; как взе англишане, ви езть ошень экзбансивны. Што казаетзя меня, то взять этот балка и бродить в шудезных лезах и болях und видеть брироду und немного отдохнуть und глотнуть бива и бродить еще — это для меня шшазтье, ах! Он устремил на девушку сентиментальный взгляд сквозь стекла своих очков. В этот момент подошла миссис Трэвис, которую чрезвычайно утомили жара и помощник приходского священника; достойная дама собралась уезжать. Жиль, на лице которого отражалось овладевшее им чувство облегчения, пошел искать их экипаж. Несмотря на сильное желание быть рядом с Джослин, для пего было слишком мучительно видеть, как она говорит с другими. Он приехал на Этот вечер, желая лишь взглянуть на нее и уехать. Когда он помогал дамам садиться в экипаж, Джослин мягко коснулась его руки и спросила: — Когда вы приедете навестить нас, Жиль? — Завтра, — ответил он, весь дрожа. Он не сводил глаз с ее лица; когда экипаж немного отъехал, она оглянулась еще раз и снова почувствовала, что между ними как будто проскочила искра. — Au revoir![28] — крикнула она, махая ему рукой. Домой она неожиданно для себя возвращалась с легкой душой… Вечером после обеда она в одиночестве бродила по саду близ своего отеля. Неумолчная болтовня в гостиной раздражала ее и выводила из себя; ей хотелось побыть одной. Вечер выдался тихий, в воздухе был разлит аромат роз и гелиотропов, вокруг мелькали светлячки, дальние голубые вспышки летних зарниц временами прорезали темное небо. На мгновение воцарилась тишина, потом вдруг громко заквакали лягушки, прозвучал зов павлина, а может быть, далекий крик где-то на улицах городка, вскоре замерший вдали. Джослин прошлась туда и обратно по одной из тропинок, затем остановилась, вглядываясь в ночную тьму сияющими глазами. Губы ее шевелились, будто лаская кого-то… Что за чудесный мир раскинулся под этими далекими и безмолвными звездами! Если бы она могла обхватить его руками и расцеловать! Осыпать поцелуями нежные цветы, тихий воздух, весь этот чудесный вечер, казавшийся ей — более чем когда-либо исполненным значения и сулящим радость! Она простерла руки, а затем прижала их к груди, повинуясь внезапному безотчетному побуждению, которого почти стыдилась… Свет лампы лился во тьму из открытого окна, рисуя золотистую полоску на мокрой от росы траве. Джослин отошла подальше — ей показалось, что он грубо нарушает девственную чистоту этой ночи. Она глубоко вдохнула теплый воздух, почему-то чувствуя себя несказанно счастливой — как будто она была неуязвима, как будто путь ее освещал какой-то мерцающий свет, пробивавшийся из-за таинственной завесы, отделявшей от нее будущее. Она не пыталась понять причину этих странных, но сладостных ощущений, ей достаточно было видеть сияние звезд, слышать глухой шепот ночи. Она прижала ладонь к одной, потом к другой щеке — они горели, как от поцелуев… С далеких улиц городка донесся хриплый собачий лай; тихий сад обиженно встрепенулся с легким шуршанием, как будто потревоженный чьим-то дыханием. Девушка, слегка вздрогнув, накинула на плечи муслиновый шарф — все вокруг было мокрым от росы. Ощутив внезапную неуверенность, она повернула к дому. Этой ночью Джослин долго не могла уснуть — она предавалась раздумьям.Глава 5
Жиль приехал на следующее утро. В саду возле отеля он встретил Джослин и миссис Трэвис; они беседовали с молодым англичанином. Дамы подошли, чтобы поздороваться с Жилем, но тот сразу почувствовал, что в приветствии Джослин было что-то не свойственное ей, почти враждебное. С самого начала она не смотрела на него; казалось, она всецело поглощена рассказом безупречного молодого англичанина, многословно распространявшегося о различных «системах» и буквально на пальцах объяснявшего их недостатки. Это был невозмутимый молодой человек хрупкого сложения. В фигуре его прослеживался какой-то томный изгиб, начинавшийся от затылка и продолжавшийся до самых пят. Изгиб был и в его голосе, рождавшемся внутри него громким, но по дороге где-то угасавшем, и даже в его руках, широких у плеч, но сужавшихся к кистям. Он никогда не улыбался — не потому, что не хотел, а из-за того, что утратил эту способность; на его бледном, ничем не примечательном лице выделялись лишь глаза, смотревшие на людей оценивающим взглядом. — Все «системы» никуда не годятся, — говорил он. — В Монте-Карло, зна-аете ли, только двое могут что-то из них извлечь — старик Блор и Нильсен. Они просчитывают все, у них а-адское терпение. Миссис Трэвис, прямо сидевшая в плетеной кресле и сложившая руки на коленях, внимательно слушала его, но не была с ним согласна — она сама играла по «системам» и не хотела, чтобы ее убедили в их бесполезности. — Но я ведь своими глазами видела, как барон Циммерман позавчера выиграл пятьсот луидоров, а он играет по «системе», я знаю точно, — заявила она. — Вчера он их проиграл, и не только их, — безучастно проговорил молодой человек. Знать все обо всех было его métier[29], и миссис Трэвис очень его за это уважала. — Но, может быть, он на этот раз не играл по своей «системе»? — предположила она. — Почему вы так думаете? — О, мне кажется, иначе он бы не проиграл. Эта реплика давала яркое представление о том, как миссис Трэвис разговаривала с людьми: она никогда не верила тому, во что не хотела верить, и очень редко — тому, чего не видела собственными глазами. — Факты против вас. У вас есть лишь одно преимущество, зна-аете ли, — томно протянул молодой человек, — вы можете прекратить игру, когда захотите, а банкомет должен продолжать. Голос его упал до шепота; он подтолкнул вверх свою шляпу так, что она съехала ему на затылок. Жиль стоял немного поодаль, впившись глазами в Джослин. Два-три раза он замечал, что она смотрит на него с тревогой и беспокойством. Он не мог понять, что случилось, вспоминал безмятежность и теплоту ее вчерашнего прощального взгляда. Он был изумлен, и в душу его закрался страх. Подойдя к девушке, он спросил: — Хотите взглянуть на моего пони? Вы говорили, что вам это будет интересно. — Да, — отозвалась она равнодушно и пошла за ним по направлению к конюшне, оставив молодого англичанина холить изгиб своих усов, и пронизывать оценивающим взглядом пространство. По дороге Джослин была немногословна; если Жиль обращался к ней, отвечала односложно, то и дело посматривая на него украдкой все с тем же выражением растерянности и страха. Когда, обвив руками шею пони и прижавшись щекой к его гриве, она разговаривала с животным и глаза ее излучали нежное сияние из-под длинных ресниц, Жиль ощутил неодолимое стремление быть рядом с нею, касаться ее, чувствовать, что ее нежный голос и ласковая улыбка обращены к нему. Он подошел к девушке и, почти коснувшись ее рук, положил ладонь на загривок пони. Джослин сразу же отдернула руки с неподдельным испугом; на лице ее выступил густой румянец. Жиль, не говоря ни слова, посмотрел на нее, и во взгляде его ясно читались мука и вожделение. Она продолжала машинально похлопывать животное по шее. Наконец Жиль заговорил, скорее для того, чтобы дать выход бурлившим в нем чувствам, нежели высказать то, что он хотел сказать. — В чем дело, Джослин? Почему вы так… Наступив на связку соломы в стойле, она молча вышла из конюшни. Он остался стоять на месте, покусывая кончики усов, онемев от отчаяния и боли. Попи подошел и ткнулся влажным носом в карман его куртки. Минутой позже Жиль пришел в себя, но девушка уже прошла к себе в комнату; он долго ждал, но она так и не вышла. В конце концов он уехал, почти обезумев от подозрений и тревоги… После этого он больше не пытался увещевать Джослин. Днем и ночью он думал лишь о том, чтобы быть около нее. Общепринятая мораль значила для него теперь не больше, чем туман, бесплотный призрак, временами становившийся поперек дороги, по которой вела его страсть. Он оказался лицом к лицу с двумя неприятными, тягостными, но неизбежными ощущениями, которые мучили его, жалили в самое сердце, занимали все его помыслы: неутоленным вожделением и боязнью заставить девушку страдать. Страсть вызвала в нем смятение чувств, не позволявшее ему увидеть выход из создавшегося положения, хотя он ясно вырисовывался. Душа Жиля открылась возвышенным порывам, таким, как стремление приносить пользу людям, готовность к самопожертвованию. Однако злая ирония заключалась в том, что эти благородные устремления пробудила в нем та самая причина, что вызывала желание слиться с девушкой, сорвать вуаль, которая разделяла их — и физически, и морально. Он думал о Джослин с благоговением, как о чем-то святом и неприкосновенном, однако отдал бы десять лет жизни за один лишь ее поцелуй. Его воля, ослабевшая за годы пассивного дрейфа по волнам жизни, робко пыталась вступить в борьбу со страстью; он принимал выстраданные решения, с трудом отказывался от них и наконец смутно осознал, что не может ни оставить девушку, ни заставить ее страдать. В таком тревожном состоянии духа он совершал ежедневные паломничества со своей залитой солнцем виллы в Ментону, и каждый день нахлынувшие воды страсти поднимали его на шаг выше на безжизненной скале нерешительности. Шикари, борзая, сопровождавшая его в этих походах и спавшая по ночам рядом с его кроватью, была единственным живым существом, хоть как-то скрашивавшим его жизнь в эти дни, ознаменовавшие конец былого его безмятежного существования. Горячая любовь, которую Джослин питала к животным, окружала собаку каким-то ореолом. Какая-то часть прежнего теплого отношения девушки к нему, думал Жиль, осталась в тех ласках и нежных словах, которые она расточала борзой. В то время, когда ни от кого из людей нельзя было ожидать сочувствия, собака дружески клала голову на его колени, а сознание его в эти минуты яростно и бессильно бунтовало против гнета препятствовавших ему обстоятельств и людей. Он пока еще мог контролировать свои поступки, по-прежнему был вежлив и предупредителен с женой, однако часто, глядя на нее, внезапно осознавал, что пытается определить, насколько убавилось живости в ее лице и движениях, и тогда, ненавидя себя за это, отворачивался. Каждое утро Жиль покидал виллу и под палящим солнцем отмерял по пыльной дороге пять миль на запад размашистой, торопливой походкой; каждый вечер под покровом сумерек медленно и понуро возвращался домой с искаженным лицом и шевелившимися губами. Он всегда ходил пешком в оба конца, и усталость приносила ему некоторое облегчение, избавляя от мучительных ночных раздумий. Ему не каждый раз удавалось увидеться с Джослин. Иногда в последний момент мужество оставляло его, и он, даже не пытаясь с нею встретиться, бродил совершенно подавленный по улицам городка, а вечером возвращался домой, проклиная свою трусливость. Его несчастье усугублялось тем, что он не понимал девушку. В некоторый дни она едва говорила с ним, отшатывалась, если он случайно дотрагивался до нее, и старалась не оставаться с ним наедине, в другие казалась такой же спокойной и дружелюбной, как прежде, но и тогда у него создавалось впечатление, что она принуждает себя не думать, не чувствовать, а просто жить настоящей минутой. Она старалась не касаться его, если могла этого избежать, ему редко удавалось поймать ее взгляд, если тот становился нежным и сияющим; глаза ее по-девичьи стремительно прятались под вуалью темных ресниц прежде, чем он успевал понять, что этот взгляд выражает. Он сознавал, что во всем виноват сам, не сумев скрыть свои чувства. Временами он бывал с девушкой холоден, почти угрюм, иногда до крайности молчалив. Порой в голосе его прорывалась нежность; потом Жиль опять становился таким, как обычно, — унылым и немногословным, по всегда — всегда — смотрел на девушку голодными глазами. Когда ее окружали другие люди, его терзали муки ревности — он хотел, чтобы она уделяла внимание только ему. Выражение страха, чуть ли не ужаса на ее лице преследовало его как призрак; иногда он бежал от нее, осыпая себя проклятиями и называя скотиной, если хотя бы на миг причинял ей боль. Несколько раз он даже принимал решение оставить Джослин, не видеться с нею больше, но в конечном счете оказалось, что он, на это не способен. Однажды, когда она думала, что он на нее не смотрит, Жиль перехватил ее взгляд, в котором странным образом смешалось то, чего он не видел раньше: удивление, страх, жалость и еще какое-то глубокое чувство; сердце его тогда, так и захолонуло, но в следующий миг выражение это исчезло с ее лица, и оно стало загадочным и непроницаемым, как маска. Этот взгляд помог ему пережить не один день. Он мысленно перебирал все мельчайшие подробности их встреч, все слова, сказанные ею, и даже те, которые, казалось, должны были сорваться с ее губ, мысли, мелькавшие на ее лице, и другие, не осознанные ею. Несмотря на ее инстинктивное женское притворство и подсознательный барьер девичьей скромности, все это не могло укрыться от его глаз, глаз отчаявшегося человека. Он пытался понять ее, как гибнущий от жажды пытается найти в пустыне воду — удача для него означает жизнь, а неудача равносильна смерти. Сознание того, что он поставил на карту жизнь и что даже в случае удачи вода может оказаться соленой и непригодной для питья, усиливало остроту его зрения, обычно не свойственную глазам влюбленных. Бежали дни и недели, а он выглядел все хуже, все более измученным; под глазами его появились тени. Он терзался неопределенностью, не зная в точности, что она чувствует, на что ему надеяться и чем все это может кончиться. Он стал жертвой своей страсти и своих сомнений. Однажды утром по дороге к отелю он неожиданно встретил миссис Трэвис, отправлявшуюся с очередным визитом в Монте-Карло. Она сказала ему, что Джослин пошла гулять, взяв с собой книгу. Он проводил достойную даму до станции и, дождавшись, пока ушел ее поезд, направился кратчайшим путем через окраину городка к подножию холма — он знал, что там было излюбленное место прогулок Джослин. Солнце пекло нещадно, стояла удушливая жара, от которой не было спасения ни в домах, ни на улице; пересохли даже все ручьи. Жиль миновал группу солдат в синих мундирах и белых бриджах, шедших вразброд, вздымая пыль, затем трех или четырех девчушек верхом на осликах; девочки весело окликнули его, а потом продолжали без умолку болтать; за осликами брели погонщики, помахивая палками. Он шел по узкой улочке между двумя изгородями, густо увитыми шиповником, минуя дома, откуда доносились запах дыма и собачий лай. Наконец он достиг отрогов холма и шагал теперь по узкой долине, по обе стороны которой уходили вверх увитые виноградом склоны. Неуверенность в успехе его поисков придала ему мужества, и он шел быстрыми шагами, не задумываясь, будет ли Джослин рада его видеть. Он почти уже утратил надежду найти девушку и хотел было повернуть назад, как вдруг увидел ее. Джослин сидела на поросшем чабрецом склоне левого от него холма, немного ниже тропинки, по которой он шел; она подперла подбородок ладонями, устроив локти на коленях; рядом лежала открытая книга. Сердце его дрогнуло и тревожно застучало; он остановился и стал думать, что делать дальше, однако внезапный шум его шагов привлек внимание девушки, и она подняла голову. Жиль снял шляпу. — Могу я составить вам компанию? Или мне уйти? — спросил он. Она испуганно взглянула на него, наполовину приподнявшись с земли. — Может быть, мне уйти? — повторил он. — Так было бы лучше, — ответила она, но затем, как будто извиняясь за эти странные слова, протянула руку и воскликнула: — Ох, нет! Конечно, давайте поговорим, если вам хочется. Он спустился к ней по скользкому склону, покрытому высохшей на солнце травой, и во весь рост растянулся на земле рядом с девушкой. В долине под ними благоухали миндальные деревья, на склоне холма блестели на солнце оливы и высокие кипарисы, напоминавшие часовых, охраняющих эти места. Перекликались кукушки, жужжали пчелы, по долине плыл звон колокольчиков, доносившийся от пасшегося где-то вдалеке стада коров. Сквозь сухую землю пробивались маленькие цветочки, в неподвижном воздухе был разлит душистый аромат чабреца. — Я больше всего люблю этот час, — проговорила Джослин. — День как будто засыпает, отдыхает после того, как прошел экватор, и перед тем, как начать клониться к вечеру. Вы слышите пчел? Какая колыбельная! Она сидела, слегка склонив голову набок и улыбаясь. Жиль, как всегда, не сводивший с нее глаз, заметил, что улыбка постепенно исчезла с ее лица и на нем вновь проступили усталость и беспокойство. Он взял ее книгу и стал перелистывать страницы, чувствуя, что это привычное занятие помогает удержать подступавший к горлу комок. Внезапно девушка сказала: — Зачем Вселенной нужны люди? Они лишь нарушают ее гармонию. Как она была бы прекрасна, если бы не мы — ужасные, невыносимые создания! Она вытянула перед собой руки, словно отталкивая какую-то грозившую раздавить ее тяжесть. Это движение болезненно отдалось в его сердце; он резко изменил позу и сел вполоборота к ней, стиснув переплетенные пальцы — на него нахлынули тоска и озлобление. Вдруг он почувствовал, что его мягко потянули за рукав. Обернувшись, он увидел такое жалобное, трогательное выражение на ее узком овальном лице с большими карими глазами, что все прежние чувства испарились, и он думал теперь лишь о том, как сделать, чтобы в ее глазах снова, как обычно, заблестел огонек. Он заговорил о книге, обо всем, что только могло прийти ему в голову, и лицо девушки постепенно прояснялось, она смотрела на него теперь приветливо и дружески. Так, разговаривая и читая, они просидели там долгое время. Тени сосен постепенно удлинялись, и наконец лучи заходящего солнца озарили теплым светом склон холма. Джослин сказала: — Мне пора возвращаться. Она встала, но тут же поскользнулась и упала бы на землю, если бы стоявший рядом Жиль не поддержал ее за талию. Он ощутил ее дыхание на щеке, тяжесть ее податливого тела, и глаза его засверкали от наслаждения, заставившего дрогнуть его сердце. Когда девушка встала на ноги, он на мгновение удержал ее в своих объятиях. Вдруг она напрягла мышцы, с силой оттолкнула его от себя и, закрыв лицо руками, пустилась бежать вниз по склону холма. Жиль неподвижно стоял там, где она его оставила… Через полчаса он тоже спустился вниз. У самой тропинки на стволе упавшего дерева сидела Джослин; она поднялась и, не сказав ни слова, пошла рядом с ним. Лицо ее пылало, под глазами виднелись круги; заметно было, что она только что плакала. Затаив дыхание, он взял девушку за руку и нежно сжал ее ладонь. Они молча стали спускаться по тропинке вниз.Глава 6
Жиль беспокойно мерил шагами веранду своего дома; он ждал приезда Джослин. Его жена послала приглашение ей и миссис Трэвис с расчетом, что потом те поедут в Бордигеру. Дам сопровождал Нильсен, также получивший приглашение; перспектива провести целый день в обществе Джослин заставила его на этот раз отказаться от ежедневных трудов за игорным столом. Маленькая серая вилла, почти нависала над дорогой, ведущей в Корниче; она, казалось, глядела с отвесного обрыва в море, зыбившееся под шелест бриза вплоть до сапфирной линии горизонта, а ближе к берегу окружавшее огромную скалу тусклым бирюзовым полумесяцем, разрывавшимся лишь там, где сверкавшие на солнце хлопья пены перехлестывали через серо-зеленые рифы. С одной стороны дороги на крутом обрыве стояла группа серебристых олив, чуть трепетавших листвою под свежим ветерком; с другой стороны над дорогой нависали разбросанные по крутому склону пинии, недвижные и словно задумавшиеся. Заросли розовой герани и темно-красных бугенвилей расцветили серые стены виллы; гирлянды разноцветных роз обвивались вокруг закрытых зеленых ставней. По извилистой, покрытой белесоватой пылью дороге брел старик, пригнувшийся под тяжестью связки пальмовых веток. С горки по направлению к мосту с грохотом съехала двуколка под аккомпанемент щелканья кучерского хлыста и криков «тпр-ру!». Перед фасадом виллы в самой пыли сидели трое загорелых до черноты мальчишек; они весело болтали, неведомо зачем перетаскивая вдоль дороги плоские камни. Группа женщин в пестрых юбках полоскала белье в стоявшем на берегу чане; слышны были негромкие звуки их разговора, в котором звучали металлические нотки, а каждая фраза завершалась патетическими причитаниями. Слева от фасада, где дорога огибала сложенную из серых камней стену, несколько утопавших в густой пыли пальм устремили свои вершины в небо; справа сквозь розовато-лиловые заросли глициний и томных гелиотропов можно было заметить заросшую мхом стену красивой высокой мавританской башни со сводчатым проходом, отделанным выцветшими добела камнями. Море придавало зеленовато-голубой оттенок опавшим листьям, чуть покачивавшимся кривым стволам олив и веткам сосен; ярко-белая пелена тумана, переползшая через горные вершины, казалось, бросила шутливый вызов облакам, что так долго парили в одиночестве среди необъятных небесных просторов. В углу сада, где растопыренные папоротникообразные листья и тускло-розовые плоды перечного дерева отбрасывали причудливые, похожие на перья тени, лежал на траве Шикари. Он устроил голову между лап и полузакрытыми глазами глядел на хозяина, который в волнений не находил себе места. Но вот наконец со стороны дороги послышался шум подъезжавшего экипажа. Жиль перестал метаться по просторной террасе и в сопровождении собаки устремился к винтовой лестнице с полукруглыми решетчатыми ступенями, которая вела вниз, к калитке. Экипаж остановился. Первой из него вышла Джослин. Перед тем как взойти по лестнице, она несколько мгновений простояла на месте, подняв голову и глядя на Жиля сквозь переплетавшиеся ветви розовых кустов, обвивавшие арку калитки. Свешиваясь из проемов ажурных резных ступеней, они таинственным образом украсили ее голову неким подобием розового венка; казалось, они что-то шепчут ей, подают какие-то знаки. Шикари тяжело спустился по ступенькам и, встав на задние лапы, положил передние на плечи девушки. Ирма ожидала их в прохладной комнате на нижнем этаже. У нее был очень нездоровый вид, новостей она приветствовала с неподдельной сердечностью. Жиль заметил, что она смотрела на Джослин с каким-то странным, «знающим» выражением. Нильсен, вошедший следом за дамами, неожиданно достал из кармана красивую китайскую чашечку и преподнес ее хозяйке с обычным для него наигранным равнодушием. ...Все права на текст принадлежат автору: Джон Голсуорси.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Купить эту книгу в ЛитРес
Купить эту книгу в ЛитРес