Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
БОРОДИН
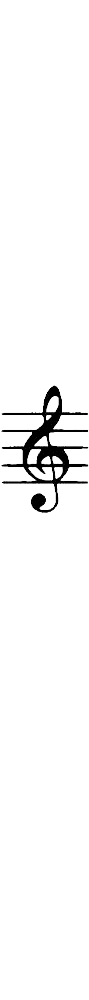


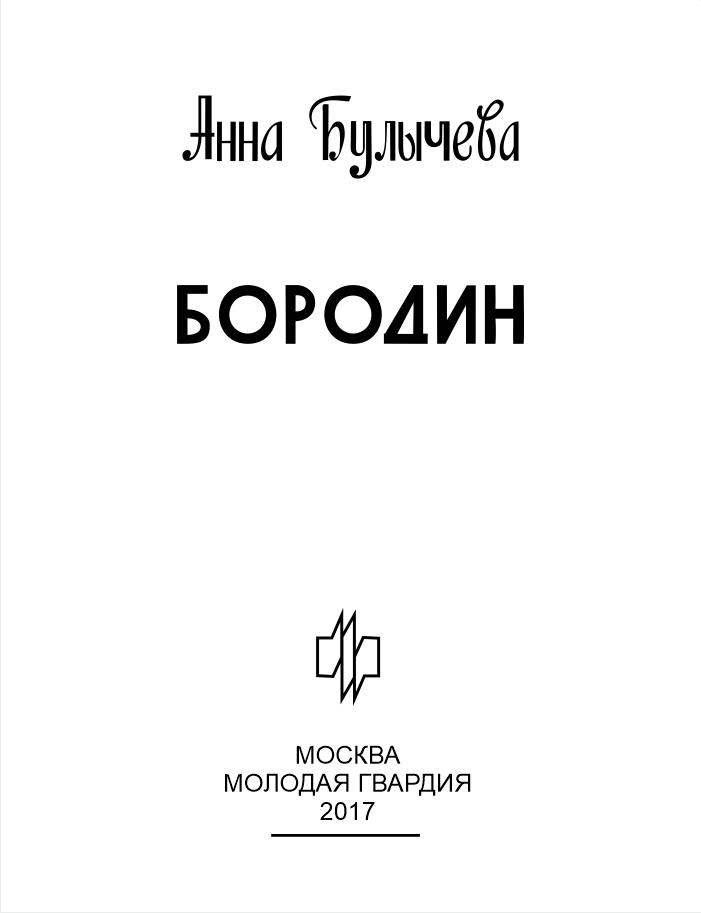
ПРЕДИСЛОВИЕ
Александр Порфирьевич Бородин не вел дневника и не оставил воспоминаний, но кажется, будто о его жизни известно всё. Уверенность в этом внушают две биографии, написанные вскоре после его смерти Владимиром Васильевичем Стасовым, воспоминания друзей, а главное, четыре тома писем композитора, изданные Сергеем Александровичем Дианиным. Мало кто так обильно фиксировал подробности домашнего быта, как это делал Бородин в частых письмах жене. Если скользить по их поверхности, картина кажется ясной. Если же сопоставлять их с другими источниками, проступают белые пятна, возникают вопросы, на которые нелегко найти ответы. Бородину повезло меньше, чем Мусоргскому. Авторские редакции «Бориса Годунова» и «Хованщины» давно восстановлены и прочно вошли в репертуар театров, но сочинения Бородина до сих пор исполняются в версиях Римского-Корсакова и Глазунова. Из предпринятых в 1930-е и 1940-е годы текстологических исследований Павла Александровича Ламма и Анатолия Никодимовича Дмитриева опубликованы лишь крохи. Из 908 страниц машинописных «Материалов к биографии Бородина» Ольги Павловны Ламм никто, кажется, не читал больше тридцати. Занимаясь восстановлением авторского текста оперы «Князь Игорь» и Второй симфонии, я не переставала удивляться, как не похож подлинный Бородин на того композитора, которого мы знаем. Никакой «сказочной» декоративности, никакой «эпической» рыхлости — всё строго, энергично, обжигающе реально. В музыке, в нотных рукописях Бородин был самим собой: не притворялся и не наговаривал на себя, как в письмах, в которых всегда отражаются две личности — автора и адресата. Увы, не все музыкальные рукописи сохранились, некоторые пропали уже после смерти Бородина. Хранившиеся в семье Дианиных его личные вещи, библиотека и часть архива не раз подвергались разорению. В 1921 году председатель дворового комитета бедноты Гросберг с женой и неким близким к ней матросом Балтфлота «экспроприировали» ценное, с их точки зрения, имущество. В недрах Выборгского рай-жилотдела сгинули портреты Бородина-юноши и его отца, посмертная маска Александра Порфирьевича и костюм, в котором он умер, наибольшая часть нот и книг, мебель, ковры, альбомы фотографий. В 1938 году, изверившись на тот момент в возможности издать биографию композитора, Сергей Дианин отдал свою рукопись на временное хранение в Государственный институт театра и музыки. Вернули ему ее… без уникальных фотографий. Следы виолончели Александра Порфирьевича затерялись еще раньше. А летом 1939 года Дианин оставил квартиру на попечение некоей Альстер. Ее родственники случайно сожгли письменный стол, а с ним часть бородинских документов. В начале войны Дианин перевез остававшиеся у него богатства в Нижний Новгород, но в 1942-м был вынужден срочно уехать в село Давыдово Владимирской области. Семейные иконы Бородина, остатки его библиотеки, фотографии родных так и пропали в Нижнем. Позднее удалось вызволить переписку, афиши и некоторое количество нот. Сундук с уцелевшей частью архива на попутном грузовике доехал до Инвалидного дома в Новой Быковке, откуда его повез в Давыдово слепой возница. По дороге запряженную быком повозку задел грузовик, сундук упал и раскрылся. Его подняли, бумаги кое-как собрали. В который раз костяк бородинского архива — потрепанный, с обгоревшими страницами — был спасен. Потерь так много, что часть белых пятен в биографии Бородина навсегда такими и останутся. Но и среди сохранившихся документов до сих пор остаются сотни неизданных, которые проливают свет на многие обстоятельства его жизни.Бородин был богато одарен. Его влекло двойное призвание — ученого и музыканта. В историю он вошел в большей степени как композитор, поскольку от химии после сорока лет стал отдаляться, в музыке же продолжался подъем. При жизни на него градом сыпались упреки, звучащие и поныне. Химики полагали, что Бородин не оправдал возлагавшихся на него надежд, увлекшись музыкой. Композитора обвиняли в дилетантизме, но достаточно познакомиться с несколькими страницами музыки его современников — настоящих дилетантов вроде Григория Андреевича Яншина или Виктора Массё, — чтобы понять всю несправедливость обвинения. Первое, что обычно сообщается при разговоре о «Князе Игоре»: автор 18 лет работал над оперой и так и не сумел ее закончить. Однако в голове Рихарда Вагнера оперные концепции могли созревать и дольше, а ведь он не писал симфоний и квартетов. Профессиональный во всех отношениях композитор Сергей Иванович Танеев более десяти лет работал над своей единственной оперой «Орестея». В целом творческое наследие Танеева не намного превышает наследие Бородина. Наследие Анатолия Константиновича Лядова количественно еще скромнее, что отнюдь не делает его фигуру незначительной. «Скажут: мало русских творений, — резал правду Александр Сергеевич Даргомыжский. — Тем лучше. Бутылка спирта бывает полезнее бочки разведенного водою вина». Как ни мало написал Бородин, до сих пор не вся его музыка издана, а в списках сочинений остаются неточности.
Ни одна деталь в этой книге не выдумана, самые невероятные подробности и реплики взяты из документов — фантазия не в силах тягаться с реальностью. Письма, цитируемые без указания адресата, написаны Александром Порфирьевичем до 1863 года — матери, после — жене. Появление новой биографии Бородина было бы невозможно без неоценимой помощи тех, кто работает с историческими материалами. Огромная благодарность хранителю Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. М. И. Глинки Нине Эдуардовне Грязновой и заведующей читальным залом музея Елене Владимировне Фетисовой; заведующей Кабинетом рукописей Российского института истории искусств Галине Викторовне Копытовой; заведующему читальным залом рукописей Российского государственного архива литературы и искусства Дмитрию Викторовичу Неустроеву, доктору искусствоведения Марине Павловне Рахмановой, директору Камеш-ковского историко-краеведческого музея Светлане Борисовне Кудряшовой и экскурсоводу Музея Бородина в селе Давыдове Татьяне Константиновне Ерлыкиной; директору Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга Ирине Борисовне Шелухиной и заведующей читальным залом Марии Михайловне Перекалиной; научным сотрудникам Отдела рукописей Российской национальной библиотеки Наталии Васильевне Рамазановой и Марии Геннадьевне Ивановой; ведущему научному сотруднику Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Полине Ефимовне Вайдман и научному сотруднику музея Татьяне Дмитриевне Потаповой; заведующей научно-исследовательским отделом рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории Тамаре Закировне Сквирской; заведующей читальным залом Научной музыкальной библиотеки Московской консерватории Наталье Николаевне Оленевой; заведующей рукописным отделом Института русской литературы РАН Татьяне Сергеевне Царьковой; заведующему архивом нотной библиотеки Большого театра России Борису Владимировичу Мукосею и всем, кто делом и советом помогал в этой работе.
Часть I
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО БРАКА

Глава 1 КРЕПОСТНОЙ МАЛЬЧИК
Будущий химик и композитор появился на свет 31 октября (12 ноября нового стиля) 1833 года в Санкт-Петербурге, на Гагаринской улице. Родителями его были князь Лука Степанович Гедианов и мещанка Авдотья (Евдокия) Константиновна Антонова. 15 ноября ребенка записали сыном Порфирия Ионовича Бородина, дворового человека князя Гедианова, и его законной жены Татьяны Григорьевны. Мальчика крестили в Пантелеймоновской церкви, крестными родителями стали брат и сестра Авдотьи Константиновны. Лука Степанович считал себя потомком князей Имеретинских и не раз говорил об этом сыну. Согласно более поздним разысканиям композитора Дмитрия Игнатьевича Аракишвили, Гедиановы были потомками не имеретинских, а картлинских князей Гедевановых либо мегрельских князей Дадиани. Официальная родословная, однако, объявляет предком всех Гедиановых татарина Гедею, который при Иване Грозном выехал из Орды и принял крещение, получив имя Николай. В 1825–1827 годах Лука Степанович хлопотал о внесении своего герба в Общий гербовник дворянских родов Российской империи. На четырех частях щита, увенчанного княжеской короной и покрытого княжеской мантией, изображены полумесяц, выходящая из облака рука, держащая равноконечный крест, всадник в плаще с поднятым изогнутым мечом и крепостная стена с башней и воротами. Это герб мусульманского рода, на Руси перешедшего в православие. Княжеский род Гедиановых вписали в родословные книги Тверской губернии, но герб остался среди неутвержденных, ибо на Луке Степановиче род пресекался. Согласно родословной девять поколений отделяло от Гедеи его потомка, родившегося 7 октября 1773 года в Бахмуте Екатеринославской губернии — имении своего отца, отставного поручика Бахмутского гарнизонного полка Степана Антоновича Гедианова. Поручику в то время было около 60 лет. Осиротев в младенчестве, трехлетний Лука был привезен в Москву. Это не идет вразрез с «имеретинской» версией его происхождения: на Украине было немало грузинских помещиков, а в Москве до пожара 1812 года существовала Грузинская слобода. В 16 лет Лука поступил в Великолуцкий мушкетерский полк унтер-офицером и семь лет спустя вышел в отставку, как и его отец, поручиком. Поселился он в Тверской губернии, затем перебрался в Москву. В браке с ровесницей Марией Ильиничной Исаковой 26 мая 1804 года родилась его единственная дочь Александра. Сашенька по каким-то причинам воспитывалась не при родителях, а в доме княгини Софии Сергеевны Мещерской (урожденной Всеволожской). В 14 лет ее выдали замуж за 23-летнего внебрачного сына княгини — подполковника, штаб-офицера Гвардейского корпуса Николая Евгеньевича Лукаша, будущего военного губернатора Тифлисской губернии (молва упорно называла его сыном Александра I). Дав жизнь шестерым детям, Александра Лукинична умерла в Москве 23 февраля 1834 года — 29-летней. Князь Гедианов был богат. Пожалованные пращуру Ивану Степановичу за воинские заслуги в 1631 году земли под Вологдой еще в начале XVIII века были пожертвованы монастырю, но существовали и другие имения. Отставной поручик владел селами в Старицком и Бежецком уездах Тверской губернии и подмосковной деревней Старки (близ Черноголовки). Со временем он эти поместья продал, взамен купив у Разумовских подмосковное Перово с деревеньками Тетерки и Пикуново. В Саратовской губернии Гедианову принадлежали село Крутец, часть села Изнаир (Богородского) и другие земли, под Петербургом имелась дача в Лесном. По смерти Бородина стараниями критика Владимира Васильевича Стасова сведениями о его детстве поделились ближайшие родственники и знакомые. В их воспоминаниях Лука Степанович ни словом не упомянут. Однако рассказы о нем передавались в семье из уст в уста и в XX веке были записаны Сергеем Александровичем Дианиным. Тут и повесть о совместных с графом Петром Алексеевичем Разумовским кутежах в Перове, и смутные предания об участии князя в существовавшем при Александре I Российском библейском обществе (ответвлении аналогичного Британского), с которым он был связан через своих друзей Мещерских, Всеволожских и Голицыных[1]. Существует собственноручно написанное Лукой Степановичем 30 декабря 1829 года послание к эксцентричной княгине Анне Сергеевне Голицыной (сестре Софии Мещерской), основавшей в Кореизе колонию пиетистов и ходившей там в мужском платье. Из него можно заключить, что князь по просьбе хорошо знакомой ему княгини взыскивал с некоего петербуржца долг по заемному письму. Дело касалось ее торговли винами — надо полагать, крымскими. Гедианов тогда сообщил княгине, что хочет уехать из Петербурга в Москву, к семье. Как видно, этого намерения он не осуществил… Авдотья Константиновна родилась в 1809 году в Нарве в семье солдата. Ее сестра Устинья в Петербурге вышла замуж за чиновника Казенной палаты Владимира Петровича Готовцева. Их дочери будут сопровождать Бородина по жизни. Мария в детстве часто гостила у тети. На уроках танцев дети составляли пару, а когда девочка танцевала одна, мальчик играл на фортепиано. Взявшись за руки, Саша и Мари подходили к Авдотье Константиновне задать очень важный вопрос: — Можно ли нам жениться? — Можно, можно. Вот вы теперь ступайте, поиграйте, а уж потом и женитесь. Другая дочь Готовцевых, Александра (Саничка), много позже станет вести хозяйство Александра Порфирьевича. Брат Авдотьи и Устиньи Сергей служил в Петербурге помощником смотрителя Зимнего дворца по Строительной части и к 1831 году получил первый офицерский чин. Жил он в доме служителей придворного ведомства на Гагаринской, напротив дома, где квартировал Лука Степанович. Красавицу Авдотью Константиновну экс-мушкетер высмотрел на танцевальном вечере придворных служителей в 1831 или 1832 году. Вскоре она перебралась в его квартиру на втором этаже дома Булиной, где и родился Саша. Мать до конца жизни боялась за старшего сына и оберегала его как могла. 14-летнего подростка она за руку переводила через улицу. 28-летний Бородин, возвращаясь из Германии, написал ей с дороги: «Послезавтра еду! В четверг вечером буду Дома!!! Р. S. Если в четверг еще не буду, то не заключайте из этого, что я умер или что меня повесили, а просто знайте, что я замешкался или меня что-либо задержало». Что было тому причиной? Болезненность ребенка? Призрак Воспитательного дома, маячивший, пока Саша не был записан хоть крепостным, да законнорожденным? Необычно долгий срок, прошедший между рождением и крещением ребенка, заставляет подозревать несогласие родителей относительно судьбы сына. Порфирий Ионов Бородин числился «дворовым человеком Саратовской губернии Балашевского уезда сельца Новоселок», но вряд ли за ним специально посылали в Поволжье, не найдя никого подходящего по семейному положению поближе. Скорее всего, крепостной слуга неотлучно состоял при барине. Пока ребенок был совсем мал, князь высказывал намерение отдать его в ученики к сапожнику. Если бы Лука Степанович умер, не дав сыну вольную, крепостной Саша стал бы собственностью его законной вдовы, благополучно здравствовавшей княгини Гедиановой. Что ждало бы его тогда? Сколько выстрадала Авдотья Константиновна перед рождением Саши и в первые годы его жизни — один Бог ведает. Но постепенно ситуация стала меняться. Вот Лука Степанович становится крестным отцом племянников Авдотьи Константиновны. Вот крепостной Саша играет со своими племянниками Лукашами, бывшими его старше. Рано осиротевшие внуки Гедианова на всю жизнь сохранили добрые отношения с Авдотьей Константиновной. В 1860 году в Гейдельберге Бородин много общался с племянницей Елизаветой и племянником Сергеем, выпускником Школы гвардейских подпрапорщиков. Лиза расспрашивала его о матери, передавала ей «сердечные поклоны». Весной или в начале лета 1839 года Авдотья Константиновна из девицы Антоновой, мещанки, превращается в госпожу Клейнеке, супругу отставного военного врача, коллежского советника Христиана Ивановича Клейнеке. В семейном архиве сохранилось поздравление по случаю «радостных дней супружества» от некоего Петра Берга, отправленное 27 июля 1839 года из Брест-Литовска, — самодельный акростих на имя Авдотья. Старик Клейнеке умер не позднее лета 1841 года. Похоже, брак был фиктивным, с целью «изъять» Авдотью Константиновну из податного сословия и освободить ее на будущее от многих расходов и повинностей. Однако племянницы старика Клейнеке, знавшие Авдотью Константиновну с малых лет, звали ее «бабушкой»: ее доброта и заботливость распространялись на всех детей без исключения. Приблизительно в то же время госпожа Клейнеке становится домовладелицей: князь покупает ей четырехэтажный дом в Измайловском полку. В 1840 году он заказывает некоему художнику парные портреты маслом — свой и гражданской жены. Именно Авдотье Константиновне и ее сыну князь передал образок Николая Мирликийского, хранившийся в семье Гедиановых с XVI века: образок этот висел на голубой ленточке на серебряной ризе иконы Владимирской Богоматери. Какую роль в сих чудесных событиях сыграла сама Авдотья Константиновна, какую — подраставший в доме необыкновенный ребенок, судить трудно. В одном можно не сомневаться: мать как женщина энергичная и решительная сделала для обожаемого сына всё, что было в человеческих силах. Бородин прекрасно помнил отца. Взрослым иногда даже гримировался и изображал старого князя — видно, отец был большой шутник, иначе от кого бы сын унаследовал такую бездну остроумия? Помнил Бородин и дом, в котором жил ребенком, — на углу Гагаринской, Сергиевской (ныне Чайковского) и Косого переулка (ныне улица Оружейника Федорова). В двух шагах — набережная Невы, в двух кварталах — Летний сад, по пути к которому помещалось знаменитое Училище правоведения. От отца Саша унаследовал не только восточную внешность, но и характерную мимику — от старания оттопыривать нижнюю губу. Какой была его мать в молодости? Когда Авдотье Константиновне шел 62-й год, она, постаревшая и сильно хворавшая, после долгих хлопот продала свой требовавший ремонта дом портных дел мастеру Ивану Ивановичу Гольцбергу, и вот что написал Бородин жене: «Тетушку узнать нельзя. Она развеселилась, целые дни поет, играет на гитаре и приплясывает…» Лука Степанович умер 21 декабря 1843 года и был погребен в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, что в Стрельне. Княгиня Мария Ильинична начертала на памятнике: «Супругу моему и благодетелю». Шесть лет спустя там же похоронили одну из их внучек — Марию Николаевну Хитрово, урожденную Лукаш. Незадолго до смерти князь успел дать Саше вольную. Был у дворян такой обычай: готовясь к смерти, мириться с Богом и совестью, отпуская из рабского состояния дворовых людей. Крепостной человек, наделивший мальчика фамилией и отчеством, навсегда канул в безвестность. После смерти Александра Порфирьевича вызывали его наследников — потомки Порфирия Ионовича не объявились. А Бородин так и прожил жизнь Порфирьевичем (знакомые попроще именовали его «Порфировичем»), притягивая к себе людей с редкими отчествами. Одно время вместе с ним в Медико-хирургической академии преподавал ботаник Иван Парфентьевич Бородин. В XX веке нотные рукописи Бородина тщательно изучали Анатолий Никодимович Дмитриев и Александр Парамонович Нефедов. Бородин никогда не досадовал на свое происхождение, не жил в конфликте со всем миром, как Полежаев, и не пытался этот мир перевернуть, как Герцен. Несмотря на «дуализм» натуры, равно тянувшейся к музыке и к науке, его личность неизменно пребывала в гармонии — с первых дней он рос в любви.Глава 2 В ДОМЕ «ТЕТУШКИ»
Вскоре после смерти князя Авдотья Константиновна продала дом в Измайловском полку и купила другой, на Глазовской улице (ныне Константина Заслонова), вблизи Семеновского плаца. 35-летний Бородин в письме жене окрестил этот дом «семейным археологическим музеем» и терпеливо перечислил экспонаты: почерневшую от времени мебель красного дерева, ширмы с полинявшими вышитыми картинами, тряпочки, лоскуточки, веревочки, бумажки, заклеенную замазкой посуду и — экономку Катерину Егоровну, «возраста которой никогда нельзя было определить с точностью». Мебель, а именно два трюмо красного дерева, происходила из усадьбы Разумовских в Перове. Оттуда же на Глазовскую попали настольные часы (одни — с золоченой фигурой Амура-плотника, другие — с бронзовой фигурой нагой египтянки), настольная лампа с подставкой в виде коринфской колонны черного дерева, с барельефами на базе и старинные подсвечники. Слово «мама» вслух не произносилось. Авдотья Константиновна хотела, чтобы Саша звал ее «тетушкой». «Мамой», «матушкой» он впоследствии величал тещу, «маменьками» да «крестными» — женщин, к которым испытывал нежные чувства. Саша и «тетушка» отнюдь не жили, затворившись от мира. Дом был поставлен на барскую ногу — с управляющим, прислугой, жильцами и приживалками. Здесь знакомились, влюблялись и женились, не выходя на улицу. Даже взрослым Бородин не мог ночевать в пустой квартире. Оставался дома один — уходил к знакомым. На Глазовской он перестал быть единственным ребенком «тетушки». В 1844 году на свет появился брат Дмитрий Сергеевич Александров. Отцом его был то ли кто-то из князей Волконских, то ли один из учителей Саши. Кем бы этот человек ни был, не похоже, чтобы он принимал участие в жизни семьи. Саша и Митя всю жизнь были очень близки и не имели друг от друга секретов. Младший брат проявлял интерес к химии, помогал старшему обустраивать лабораторию в Военно-медицинской академии, одно время даже пытался наладить собственное производство краски и чернил. А еще он отличался восприимчивостью к современной музыке. Лишь отец третьего из братьев — Евгения (Ени), родившегося около 1847 года, — дал ребенку свою фамилию. Коллежский секретарь Федор Алексеевич Федоров окончил Сиротский институт в Гатчине, затем Санкт-Петербургский университет, став преподавателем немецкого языка (поступление сироты в университет говорит о незаурядных способностях!). Ему выпало сыграть более чем значительную роль в судьбе Саши. Материальных трудностей семья не испытывала. Авдотья Константиновна в качестве вдовы коллежского советника получала от казны небольшую пенсию, но главным источником дохода была сдача квартир в доме. В дополнение к этому «тетушка» давала деньги в рост по заемным письмам, иногда немалые суммы. Всё, что касалось образования обожаемого Саши, ее «сторублевого котика», шло безукоризненно. Увидев, какое впечатление на сына производит духовой оркестр на Семеновском плацу, она немедленно договорилась с флейтистом — унтер-офицером Семеновского полка — об уроках (по полтиннику в час), так что игру на флейте Бородин освоил рано и накрепко. Отпускать ребенка в казенное учебное заведение «тетушка» не хотела ни при каких обстоятельствах, да и не слишком ждали в гимназиях вольноотпущенных крепостных. О домашнем обучении Бородина рассказал, что мог, его брат Дмитрий: «Твердо знаю, что брат оставался слабым, болезненным, худеньким ребенком лет до тринадцати. Родственники даже советовали матери не очень-то учить его, полагая, что у него чахотка и что ему и без того недолго жить. Как потом довольна была мать, что не послушала увещеваний родных и продолжала образование и воспитание брата, который был чрезвычайно понятлив, способен, прилежен и отличался при занятиях замечательным терпением… Математику преподавал бывший впоследствии моим товарищем по службе Александр Андреевич Скорюхов, человек пьющий, но замечательно умный и знавший свое дело. Английскому языку обучал Ропер, человек очень добродушный, но недалекий англичанин, служивший гувернером в Коммерческом училище. Придя на урок, он каждый раз заявлял матери весьма наивно, что он вспотел, почему у него «рыже под мышками». Это изречение, кажется, только и составляло всю достопримечательность этого педагога. Чистописанию, рисованию и черчению обучал Филадельфии, бывший, кажется, учителем Первой гимназии. Это был семинарист, очень неряшливо одевавшийся, с длинными черными волосами и весьма угрюмый. Немец Порман преподавал фортепианную игру. Это был методический и терпеливый человек, не носивший ни усов, ни бороды. Преподавателем он был немудрым. По-французски и по-немецки брат говорил совершенно свободно благодаря тому обстоятельству, что в доме у нас проживала девица-немка Луизхен в качестве домоуправительницы и компаньонки матери…» Были и другие преподаватели, некто неизвестный обучал Сашу латыни. В 1846 году Федоров отправился в Царское Село навестить своего учителя физики в Сиротском институте и взял с собой Сашу. Учителя звали Роман Петрович Щиглёв, он также вел математику в Царскосельском лицее в звании адъюнкт-профессора. С одним из его сыновей, Михаилом, годом младше, Саша для первого знакомства подрался, а потом на всю жизнь подружился. Отец готовил Мишу к поступлению в лицей, но Федоров каким-то образом уговорил его поселить мальчика в доме вдовы Клейнеке и готовить в Первую гимназию (благо она находилась в пешей доступности). Больше всего мальчиков сблизила музыка — Саша сразу же поразил нового друга необыкновенными способностями. Миша уже некоторое время брал уроки фортепиано у вышеупомянутого Пормана, теперь у немца появился новый ученик. Самостоятельно мальчики переиграли в четыре руки все симфонии Бетховена и Мендельсона — до того, что выучили их наизусть. Сочинял Саша в это время тоже ансамбли: струнное трио на тему из «Роберта-дьявола» Мейербера, концерт для флейты и фортепиано, ноты которого якобы выпросил его учитель-флейтист и не вернул. В ноябре 1848 года Саша переложил для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано увертюру к «Дон Жуану» Моцарта. Если прежде Бородин слышал, по-видимому, только военный оркестр, то Щиглёв, живя в Царском, посещал с родителями концерты оркестра Йозефа Германа в Павловском вокзале. Благодаря другу Саша стал завсегдатаем концертов Иоганна Гунгля (сменившего в Павловске Германа) — часто с вполне серьезной программой. Воскресные утренники любительского оркестра профессоров и студентов Петербургского университета под управлением Карла Шуберта друзья тоже никогда не пропускали. Самое пылкое поклонение меломанов вызывала тогда Итальянская опера: юный Цезарь Антонович Кюи тратил на нее все свои свободные средства, юный Менделеев с таким увлечением аплодировал и вызывал примадонну, что у него пошла горлом кровь. Неизвестно, когда Бородин впервые вкусил прелесть bel canto, но музыка эта его влекла: Саша пытался сочинять дуэты и трио на итальянские стихи. Сохранилась фортепианная партия рондо для некоего инструмента и фортепиано на темы из «Лукреции Борджа» Доницетти, то ли составленного, то ли переписанного юным Бородиным. Да и во взрослом возрасте он продолжал интересоваться транскрипциями и фантазиями на темы итальянских опер. По иронии судьбы из двух друзей именно Щиглёв стал профессиональным музыкантом: преподавал пение в Военно-фельдшерской школе при Военно-медицинской академии, немного сочинял, дирижировал любительскими хорами. С поиском места ему почти всякий раз помогал Бородин, а в 1887 году уже его вдова просила Стасова устроить куда-нибудь «бедного Щиглёва», и тот напоследок стал преподавателем Регентских классов Певческой капеллы. В 1897 году композитор Николай Черепнин встречал единственного человека, которому удалось подраться с Бородиным, на «беляевских пятницах»: «Неизменно сиживал с нами добрейший, необыкновенно приятный и милый старичок, Михаил Романович Щиглёв, ученик Даргомыжского…» Часто пишут, будто Бородин рос «в малокультурной среде». Однако его отчим окончил университет, в доме постоянно бывал отец Миши Щиглёва — преподаватель Царскосельского лицея, и можно не сомневаться, кто именно выбирал для мальчиков домашних учителей. Еженедельные посещения симфонических концертов, только-только ставших в Петербурге регулярными, также не есть свидетельство «малокультурности». Помимо музыки Бородин увлекался лепкой из мокрой бумаги, гальванопластикой, оборудовал дома небольшую химическую лабораторию: изготавливал фейерверки и акварельные краски, которыми сам же и рисовал. Любил ли он читать — об этом мемуаристы молчат. В его личной библиотеке была научная литература, были ноты, но беллетристики вплоть до конца 1870-х почти не имелось. Однако письма выдают его начитанность: в частности, «Мертвые души» он уже в молодости хорошо знал, а литературным русским языком владел в совершенстве. Живя в семье, Саша в то же время словно бы существовал несколько на особом положении: по желанию «тетушки» он называл своих братьев «двоюродными». Обучали детей тоже по-разному. В 1882 году Дмитрий попросил старшего брата помочь с изданием своих стихов и рассказов («Лесник Прокофий», «Акцизная служба», «Субъекты») и не удержался, чтобы не посетовать: «Как жаль, что меня мало учили! Задатки у меня кое-какие были и заглохли, так что я и не знаю хорошенько, что во мне и есть-то (т. е. что было). Всему, что я знаю, я все-таки сам выучился; а у матери мы только балбесничали; а она не обращала на нас особенного внимания…» Все это — без тени зависти. Но Бородин-то вырос с сознанием, что в него вложено больше, чем в других, и за это с него больше спросится. С годами его жизнь постепенно превращалась в сплошное возвращение долга ближним. В 1880-е годы никто из родственников и знакомых не сомневался, что «многоуважаемый и добрейший Александр Порфирович» есть всеобщий благодетель. Что знал маленький Саша о радостях и горестях матери, видел ли ее слезы, когда она осталась одна с новорожденным Митей? Наверняка Авдотья Константиновна оберегала его от излишних познаний, но что скроешь в доме, кишащем женской прислугой? Брат Еня в свое время был осведомлен о многом. Трудно сказать, какую роль сыграли впоследствии детские впечатления Саши. Можно лишь заметить, что при огромной популярности Александра Порфирьевича у прекрасного пола ничего не известно о его внебрачных детях, а сорокалетняя привычка именовать маму «тетушкой» и «вдовой Клейнеке» отнюдь не способствовала прямоте характера и стремлению называть вещи своими именами. С 1849 года Бородин больше не значился «вольноотпущенным дворовым человеком Саратовской губернии Балашевского уезда сельца Новоселок». Заботясь о его дальнейшем образовании и боясь, как бы сын не угодил в рекруты (срок службы тогда составлял 19 лет!), Авдотья Константиновна записала Сашу в 3-й гильдии купечество Новоторжского уезда Тверской губернии. Для такой операции ей потребовалось объявить о капитале не менее восьми тысяч рублей. В доме на Глазовской семья прожила до осени 1850 года. Шестнадцатилетний Бородин на отлично, за исключением Священной истории Нового Завета, сдал в Первой гимназии экзамены на аттестат зрелости. В музыке ему тоже было чем гордиться. Еще в 1849 году, когда Саше только шел шестнадцатый год, у петербургского издателя Роберта Гедрима с посвящением «тетушке» вышла его пьеса для фортепиано Adagio con moto е patetico (объявление об этом поместили «Ведомости С.-Петербургской городской полиции»). Пьеса действительно полна пафоса, каждый такт выдает серьезность намерений и хорошее знакомство с музыкой Бетховена и Вебера. С технической точки зрения в ней, если не считать проскочивших параллельных квинт, ошибок нет. По фактуре нетрудно догадаться, что юный автор сочинял за фортепиано и что у него были большие руки, с легкостью бравшие широкие аккорды. О двух других пьесах, тогда же изданных Гедримом, пророчески сказал на страницах «Северной пчелы» некто Ф-ов (если это всё тот же Федоров, у Бородина был просто исключительный отчим): «Особенного внимания, по нашему мнению, заслуживают сочинения даровитого шестнадцатилетнего композитора Александра Бородина: Fantasia per il piano sopra ип motive da J. N. Hummel[2] и этюд Le Courant[3]. Оба произведения проникнуты музыкальностью идей, изяществом отделки и прекрасным чувством юношеского сердца. Судя по этим первым опытам, можно надеяться, что имя нового композитора станет наряду с теми немногими именами, которые составляют украшение нашего музыкального репертуара. Мы тем охотнее приветствуем это юное национальное дарование, что поприще композитора начинается не польками и мазурками, а трудом положительным, обличающим в сочинении тонкий эстетический вкус и поэтическую душу. Дай бог успеха, а поприще великое, благородное… есть где разгуляться юному, свежему дарованию!»Глава 3 СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
Новоиспеченный 3-й гильдии купец при выборе учебного заведения, по-видимому, не имел права голоса. Митя Александров вспоминал: «Матери советовали отдать его в университет, но как раз случились там к этому времени какие-то беспорядки, и она отдумала. Знакомый один упомянул при ней, что знает инспектора Медико-хирургической академии Ильинского (давно уже скончавшегося). Мать привезла к нему брата, и Ильинский проэкзаменовал его на французском и немецком языках, по математике, истории, географии и пр.». «Ильинским» Митя поименовал прозектора кафедры нормальной анатомии и одновременно письмоводителя Конференции (Совета профессоров академии) Тимофея Степановича Иллинского. Горбатый, очень болезненный, тот всегда много и упорно работал; в 1853–1858 годах был профессором Харьковского университета, затем вернулся в академию. Умер он в 1867 году в Париже. Знакомым Иллинского-Ильинского был Федоров, но и отдать Сашу в университет, скорее всего, советовал либо Щиглёв-старший, либо все тот же Федор Алексеевич. Выпускников гимназий в академию часто принимали и без вступительных испытаний, однако Саша лишь сдал экзамены на аттестат зрелости. К тому же на медицинский факультет брали тех, кому уже исполнилось 17 лет, а он родился в октябре. Так что испытать его знания обязательно требовалось. «Проэкзаменовал на французском и немецком» — не ошибка Мити. Хотя официально лекции в академии читались на русском и на латыни, без знания немецкого учиться было затруднительно (часть профессоров не говорила по-русски). Луизхен могла гордиться своим воспитанником! А «тетушка» позаботилась представить свидетельства о крещении, происхождении, поведении и внести плату за посещение лекций. От Глазовской улицы до академии по современным меркам недалеко, но тогда расстояния оценивали иначе, а переправа через Неву по наплавному мосту всякий раз прерывалась при ледоставах, ледоходах и наводнениях. Поэтому на пять лет Сашиной учебы семья перебралась на квартиру в доме хирурга Чарного, по Бочарной улице (ныне улица Комсомола) — как раз напротив академии. При серьезной учебной нагрузке это было очень кстати. Дом «тетушка» временно оставила на попечение экономки Катерины Егоровны Бельцман и ее брата Александра Егоровича Тимофеева (крестного отца Мити). Как выяснилось позднее, делать этого не следовало. Переезд на Выборгскую сторону сопровождался происшествием, колоритно описанным в воспоминаниях Мити: «Мать… распорядилась перевезти прежде всего образ Спасителя на новую квартиру. Эту комиссию она поручила тому самому Федорову, который посоветовал отдать брата в академию. Тот, в свою очередь, сильно любя выпить, пригласил с собой за компанию Ропера (учителя английского языка). Оба они — Федоров и Ропер — сели на извозчика, взяли образ и графин водки, которою мать намеревалась угостить ломовых извозчиков на новой квартире. Дорогой Федоров и Ропер выпили эту водку, заезжали еще в погребки и порядочно нагрузились. По приезде на новую квартиру Ропер, поднимая рюмку, провозгласил тост за «великобританский народ». Федорова это возмутило, и с возгласом: «И мы не посрамим земли русской!» — он ударил англичанина кулаком по носу и разбил в кровь». Сын Еня унаследовал от отца широкую, горячую натуру… Бородин впервые в жизни надел форму и был приведен к присяге. Форма старшего брата произвела на Митю сильное впечатление. Сперва вольнослушателям полагались «семинарская серо-синего сукна шинель, черные брюки, сюртучок и фуражка с черными кантами и тремя маленькими буквами: М. X А.». Затем стало еще прекраснее: «Эта форма была заменена вскоре другой, общей для всех студентов академии: однобортным мундиром со стоячим воротником, обшитым серебряными петлицами и красными кантами и имевшим фасон фрака. Его дополняли черные брюки с красными кантами, треуголка и шпага без темляка. Поверх надевалась офицерская шинель». Академия находилась на подъеме. Президентом ее с незапамятных времен был Иван Богданович Шлегель, немец и русский патриот, неукоснительно преданный делу. Академия, подчинявшаяся Военному министерству, пользовалась некоторой автономией, имела собственную цензуру, беспошлинно выписывала из-за границы книги и учебные пособия. Конференция профессоров имела право разрешать множество вопросов, за исключением тяжб о недвижимом имуществе. Корпус зданий активно расширялся, были присоединены Второй военно-сухопутный и Морской госпитали, имелись ботанический сад и различные клиники, в 1846 году Николай Иванович Пирогов основал Анатомический институт. Увы, со смертью в 1851 году Шлегеля началось пятилетнее президентство Венцеслава Венцеславовича Пеликана, запомнившееся проверками, в форменных ли сюртуках сегодня профессора и чисто ли они выбриты, и резким ухудшением питания казеннокоштных воспитанников. Извечной «ложкой дегтя» была борьба в Конференции русской и немецкой партий. Сказывалось не только неизбежно большое число иностранцев среди профессоров, но и воспоминания о некогда существовавшем в академии Немецком отделении, специально открытом для выходцев из Курляндии, не знавших русского языка и не желавших его учить. С течением времени все смешалось: Пирогов входил в немецкую партию, в русской состояли Шлегель и легендарный анатом Венцеслав Леопольдович Грубер, который все 40 лет своей работы в Петербурге общался со студентами исключительно на смеси немецкого с латынью. В конце концов замученная им молодежь составила «груберистику» — список обычно задаваемых на экзаменах вопросов и желаемых ответов, изложенных на неподражаемом жаргоне преподавателя. Учебный год длился с 1 сентября по 1 июля. Бородин влился в огромную толпу первокурсников: только казеннокоштных поступило 250 при высоком конкурсе (сказалось закрытие Медико-хирургических академий в Москве и Вильно). Большинство традиционно составляли семинаристы, отчего нравы в общежитии царили скорее бурсацкие. Инспектор с помощниками успевали надзирать и за поведением вольнослушателей, навещая их на квартирах. Жизнь Бородина в академии началась с праздника: 16 сентября 1850 года отмечалось ее пятидесятилетие. В летнем конференц-зале происходила торжественная церемония: с подобающими случаю речами, пением хора, игрой оркестра, с целым десантом великих князей, по такому случаю избранными Конференцией в почетные члены, с представлением очерка истории академии за 50 лет, составленного профессором Прозоровым, с завтраком для почетных гостей и вечеринкой для учащихся… Затем начались трудовые будни. Бородин всерьез готовился к поприщу врача. Митя вспоминал: «Занятиям по академии брат предавался всей душой; провонял совсем трупным запахом…» Второй курс почти целиком уходил у студентов на анатомию: Грубер, за суровость и непреклонность прозванный «выборгским императором», свирепствовал. Благодаря беглому немецкому Саша хорошо успевал у «императора» и в дальнейшем остался с ним дружен. От чрезмерного усердия он однажды поранил палец и заработал трупное заражение, от которого его вылечил профессор Виктор Виллибальдович Бессер, читавший диагностику. Учеба шла отлично, по результатам экзаменов Бородин в огромном потоке переходил с курса на курс первым. На третьем году обучения произошло решающее в его жизни событие: начало занятий химией под руководством Николая Николаевича Зинина. Изначально химия преподавалась в академии строго в объеме, необходимом врачам и фармацевтам. Все изменилось, когда в 1848 году кафедру занял перешедший из Казанского университета Зинин. Молодой профессор вел кипучую научную деятельность. Синтезировав анилин, он год за годом получал всё новые органические вещества, постепенно находившие применение в промышленности. Выходя из лаборатории в аудиторию, красавец Зинин превращался в блестящего лектора, читавшего высоким тенором все химические курсы (вплоть до минералогии) и собиравшего в стенах академии сотни слушателей. Однако практических занятий для студентов еще не существовало. Пришедший к профессору с просьбой работать в лаборатории Бородин был встречен насмешками. Серьезность намерений пришлось доказывать, зато он был щедро вознагражден за свой энтузиазм — а начиналось всё на голом энтузиазме. Как писал сам Бородин в воспоминаниях о профессоре, «обстановка кафедры химии была в то время самая печальная. На химию ассигновалось в год рублей 30 с правом требовать еще столько же в течение года. Прибавим, что это были времена, когда в Петербурге нельзя было иногда найти в продаже пробирного цилиндра, когда приходилось самому делать каучуковые смычки и т. д. Лаборатория академии представляла собою две грязные, мрачные комнаты со сводами, каменным полом, несколькими столами и пустыми шкафами. За неимением тяговых шкафов перегонки, выпаривания и пр. зачастую приходилось делать во дворе, даже зимою… Но и при этих условиях у Н. Н. находились всегда охотники работать. Человек пять-шесть всегда работало, частью на собственные средства, частью на личные средства Н. Н. Так продолжалось до начала 60-х годов. Я еще студентом застал в этой лаборатории у покойного Н. Н. другого Николая Николаевича, живого, — Бекетова, который тогда занимался еще в качестве начинавшего ученого, магистранта и, за неимением посуды, работал в битых черепочках и самодельных приборах». Недаром свои знаменитые синтезы профессор в начале 1850-х годов осуществил в домашней лаборатории на Шпалерной улице. И это несмотря на то, что за годы учебы Бородина у Зинина во втором браке родилось четверо детей: старшая дочь Елизавета впоследствии вышла замуж за отцовского ученика Александра Александровича Загумени (Загуменного), младший сын Николай стал математиком, первым ректором Донского политехнического института в Новочеркасске. Бородин-студент почитал Зинина за отца. Будущий «дедушка русской химии» сформировал его научное мировоззрение. Как в свое время Николай Иванович Лобачевский в Казани привил Зинину мысль об универсальности математических методов в естественных науках, так теперь Бородин унаследовал от учителя убежденность в том, что «медицина как наука представляет только приложение естествознания к сохранению и восстановлению здоровья человека; что поэтому естественные науки, при медицинском образовании, должны играть роль первостепенных, основных предметов… что медик должен усвоить себе не столько отрывочные факты прикладного естествознания, сколько общий строй науки, способ мышления, прием и метод исследования натуралиста… что для сознательного понятия о том, как сложилась наука, необходимо — хоть несколько — поработать самому на поприще науки и внести свою, хотя бы и небольшую, лепту в общую сокровищницу знания». Так говорил Бородин на похоронах учителя, чей широкий и вместе с тем системный подход он старался перенять. Да и сама личность профессора наложила глубокий отпечаток на личность студента. Его сердечное отношение к ученикам, постоянное внимание к работам педагогических «детей» и «внуков», даже в ущерб собственным исследованиям, заботливое пестование преемников, радение «родным человечкам» — все это Бородин «дословно» повторил в дальнейшем. С началом Крымской войны в академии, как не раз бывало в ее истории, не только пятикурсники были выпущены досрочно, но и некоторые студенты третьего и четвертого курсов отправились на фронт. Среди них был Михаил Францевич Ледерле, который уговаривал Сашу ехать с ним лекарем во флот. Авдотья Константиновна произнесла решительное «нет», Саша остался заканчивать академию. Кажется, будто жизнь Бородина в этот период сосредоточивается на маленьком пятачке на Выборгской стороне. С утра до вечера — лекции и занятия в лабораториях и клиниках, а на пятом курсе — в госпиталях. Стоит перейти через улицу — и Саша дома, в семье «тетушки». Круг друзей — студенты академии, часто заглядывающие в гости. Вольнослушатели в большинстве своем были немецкого происхождения, поэтому неформальное общение с друзьями сперва шло по-немецки, «русский элемент» в окружении Бородина стал преобладать лишь на старших курсах. Из музыки Митя упоминает танцы. Это немного странно. Петербургские немцы имели свои собственные музыкальные кружки и общества, где в сугубо мужских компаниях предавались хоровому и ансамблевому пению. В этой среде вырастали местные немецкие композиторы, о которых в Германии и слыхом не слыхивали. Бородин в молодости сполна вкусил этих развлечений. Осенью 1859 года по дороге в Германию он вместе с ботаником Ильей Григорьевичем Борщовым и двумя попутчиками-немцами девять часов ждал в Тильзите кареты до Кёнигсберга. Коротали время «очень весело: отобедали, прогулялись по городу и в заключение пели квартеты немецкие». Известно также, что студент Бородин в 1854 году «запоем» сочинял фуги для фортепиано, уходя в это занятие с головой. Может быть, к фугам его пристрастили Кнох, Вертер, Цвернер, Ландцерт, Дистфельд или кто-то другой из их студенческой компании? «Тетушка» страшно боялась, как бы Саша не связался с «дурными женщинами». Для предотвращения этой напасти и в лучших традициях барских домов явилась красивая горничная, которую Бородин звал «маменькой». Так что причин покидать Бочарную улицу не было никаких. Кроме одной, прозывавшейся Михей Щиглёв. Друзья по-прежнему всерьез увлекались камерной музыкой. Маленький Щиглёв выбрал скрипку, высокий Бородин — виолончель. Учились сначала самостоятельно. «Гораздо позднее я взял не больше десяти уроков на скрипке у скрипача Ершова, а А. П. также немного уроков на виолончели у виолончелиста Шлейко. Не упускали никакого случая поиграть трио или квартет, где бы то ни было и с кем бы то ни было. Ни непогода, ни дождь, ни слякоть — ничто нас не удерживало, и я под мышкой со скрипкой, а А. П. с виолончелью на спине часто делали концы пешком, так как денег у нас не было ни гроша, с Выборгской в Коломну и т. п.», — вспоминал Щиглёв. Вместо виолончели Бородин мог брать в путь старую подругу — флейту. Неизвестно, что за музыкальный кружок собирался в 1850-е годы в Коломне. Гораздо ближе было идти до дома Лисицына у Преображенского собора. Здесь квартировал чиновник Второго отделения col1_0 канцелярии Иван Иванович Гаврушкевич, виолончелист-любитель и один из свидетелей юности Бородина, который позднее поделился бесценными сведениями. У Гаврушкевича подавались необыкновенные пельмени, запиваемые «епископом», и собирались выдающиеся музыканты. Из профессионалов — артисты оркестра петербургской Итальянской оперы скрипач Николай Яковлевич Афанасьев (автор первого русского струнного квартета и первого русского концерта для виолончели с оркестром), скрипач Иван Христианович Пиккель — выпускник Лейпцигской консерватории, виолончелист Александр Федорович Дробиш. Из любителей — инженер, вице-директор строительного департамента Морского министерства, виолончелист и музыковед Модест Дмитриевич Резвой. Однажды музыкальный вечер затянулся на целые сутки: «тетушка» во все это время, скорее всего, глаз не сомкнула, но поделать ничего не могла, старший сын вырос и заслуживал некоторой свободы. Кажется, вылазки ради музицирования были для него единственным поводом этой свободой пользоваться. Струнников обычно собиралось так много, что предпочтение отдавали большим ансамблям — от квинтета до октета. Бородину временами перепадала партия второй виолончели. Он, «скверный Violoncello II-do», играл, по словам Гаврушкевича, «стесняясь слабым умением владеть виолончелью, но был тверд в темпе и понимал красоты и гармонические, и мелодические». Исполнялись квинтеты Боккерини, ансамбли Шпора, Нильса Гаде, Фейта, Онсло-ва, московского немца Гебеля. Композиторы не первого ряда, но тогда они почитались как авторы серьезной музыки. «Я очень часто и весьма тепло вспоминаю о Вас, уважаемый Иван Иванович, о Ваших вечерах, которые я так любил и которые были для меня серьезной и хорошей школой, как всегда бывает серьезная камерная музыка!»[4] — писал Бородин Гаврушкевичу в 1886 году. А тот, склонный воспринимать себя наставником юношества, позднее доверительно сообщал Стасову: «Я познакомился с Бородиным, когда он был еще студентом М-х академии, и уговаривал его бросить шатание с флейтою, игру песенок, а пристать ко мне в звании виолончелиста для исполнения квинтетов, которые писать потруднее, чем квартеты и увертюры для большого оркестра. Уверен, что слушание квинтетов, двойных квартетов Шпора и октетов сделало на Бородина хорошее впечатление. Без моего педагогического наставления компаньон его, скрипач Васильев[5], стал бы пьяницей разгульным, а Бородин — флейтистом для пустейшей музыки». Вот так-то! Для себя, Щиглёва и Васильева-скрипача Бородин в студенческие годы сочинил четыре трио и не менее двух сонат. Сонаты исчезли бесследно, а вот посвященные Васильеву вариации для двух скрипок и виолончели на тему городской песни «Чем тебя я огорчила» впоследствии получили известность. Кроме того, Бородин переложил для флейты, гобоя, альта и виолончели фортепианную сонату Гайдна и почти довел до завершения струнный квинтет с двумя виолончелями, однако Гаврушкевичу его не показал. Не показывал и романсов, говоря, что это «пустяки». Из «пустяков» время пощадило песню «Что ты рано, зоренька» на слова С. Соловьева, до сих пор не изданный романс «Боже милостивый, правый» и три романса для голоса, виолончели и фортепиано (в подражание шедевру Глинки «Сомнение»): «Красавица рыбачка» на слова Гейне в переводе Д. Кропоткина, «Разлюбила красна девица» на слова Виноградова и «Слушайте, подруженьки, песенку мою» на слова Е. фон Крузе. Последние три появились, когда Саша учился на четвертом курсе. Музыка «Красавицы рыбачки» выросла из на ходу сочиненного вальса: Бородин легко импровизировал танцы, но, увы, «пустячков» этих не записывал. Романс посвящен Аглаиде (по сцене — Аделаиде) Сергеевне Шашиной. Вряд ли речь идет о сердечном увлечении: Аглаиде Сергеевне к тому времени минуло 47 лет. Высокая, суровая, очень замкнутая, она была певицей контральто, ученицей Франчески Феста-Маффеи и часто выступала в дуэте с сестрой Елизаветой Сергеевной, пианисткой и композитором, чьи романсы на слова Лермонтова, особенно «Выхожу один я на дорогу», до сих пор поются. Романс двадцатилетнего студента Шашина проигнорировала. Цепкая память Гаврушкевича сохранила слова, сказанные Зининым Бородину в аудитории, то есть при свидетелях: «Г. Бородин, поменьше занимайтесь романсами; на вас я возлагаю все свои надежды, чтоб приготовить заместителя своего, а вы думаете о музыке и двух зайцах». Решение о дальнейшей судьбе ученика было принято профессором заблаговременно.Глава 4 МОЛОДОЙ ВРАЧ И МОЛОДОЙ ХИМИК
Ни химия, ни романсы не помешали Бородину сдать на отлично анатомию, физиологию, общую патологию, фармакологию, фармацию, общую и специальную терапию, хирургию, окулистику, акушерство, судебную медицину, медицинскую полицию (гигиену), экзооптические болезни (то есть ветеринарную эпидемиологию) и окончить академию «с особенным отличием». 17 марта 1856 года новоиспеченный лекарь получил похвальный лист, которым его удостоила Конференция академии в знак «нынешнего и залог будущего особенного своего к Вам внимания, твердо надеясь, что Вы ревностию к службе, прилежанием к усовершенствованию и распространению Ваших познаний и благоразумным употреблением оных на пользу общую неуклонно стараться будете оправдать доброе ее о Вас мнение». Характер молодого человека уже вполне сложился — Бородин был ярко выраженным перфекционистом. Одного-двух лучших выпускников направляли на три года в петербургские госпитали, а затем — за границу, чтобы по возвращении они преподавали в академии. Именно такая дорога открывалась перед Бородиным, но он-то хотел стать химиком. Выбор между химией и музыкой не обсуждался, выбирать предстояло между химией и медициной. Места на кафедре Зинина пока не предвиделось, и Бородин старался попасть в ординаторы. При распределении предпочтение отдавалось казеннокоштным студентам, он же был своекоштным. В романе Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?» (1862–1863), который сразу же был запрещен, а тираж изъят, тем не менее читали его все, под именем Дмитрия Лопухова выведен физиолог Иван Михайлович Сеченов. По крайней мере студенты Сеченова были в этом совершенно уверены. Но если вынести за скобки истребление Сеченовым лягушек — чем Лопухов не Бородин? «…Лопухов точно был такой студент, у которого голова набита книгами… и анатомическими препаратами: не набивши голову препаратами, нельзя быть профессором, а Лопухов рассчитывал на это… По денежным своим делам Лопухов принадлежал к тому очень малому меньшинству медицинских вольнослушающих, то есть не живущих на казенном содержании, студентов, которое не голодает и не холодает. Как и чем живет огромное большинство их — это богу, конечно, известно, а людям непостижимо. Но наш рассказ не хочет заниматься людьми, нуждающимися в съестном продовольствии… Лопухов положительно знал, что будет ординатором (врачом) в одном из петербургских военных госпиталей — это считается большим счастьем — и скоро получит кафедру в Академии. Практикой он не хотел заниматься. Это черта любопытная; в последние лет десять стала являться между некоторыми лучшими из медицинских студентов решимость не заниматься по окончании курса практикою, которая одна дает медику средства для достаточной жизни, и при первой возможности бросить медицину для какой-нибудь из ее вспомогательных наук — для физиологии, химии, чего-нибудь подобного… Видите ли, медицина находится теперь в таком младенчествующем состоянии, что нужно еще не лечить, а только подготовлять будущим врачам материалы для уменья лечить. И вот они, для пользы любимой науки, — они ужасные охотники бранить медицину, только посвящают все свои силы ее пользе, — они отказываются от богатства, даже от довольства, и сидят в гошпиталях, делая, видите ли, интересные для науки наблюдения, режут лягушек, вскрывают сотни трупов ежегодно и при первой возможности обзаводятся химическими лабораториями… Вот к этим-то людям принадлежали Лопухов и Кирсанов. Они должны были в том году кончить курс и объявили, что будут держать (или, как говорится в Академии: сдавать) экзамен прямо на степень доктора медицины; теперь они оба работали для докторских диссертаций и уничтожали громадное количество лягушек…» Действительно, 25 марта 1856 года по рекомендации Зинина Бородин стал сверхштатным ординатором Второго военно-сухопутного (Николаевского) госпиталя, а 3 апреля того же года — ассистентом при кафедре общей патологии и общей терапии академии, возглавляемой Николаем Федоровичем Здекауером, где «заведовал техническими упражнениями студентов». Вскоре после этого семья перебралась в дом Климовых на Большом Сампсониевском проспекте, по другую сторону от академии. В том же году кузина Бородина Мари Готовцева вышла замуж за его друга Ивана Максимовича Сорокина, в будущем профессора судебной медицины и ученого секретаря академии. Осенью она умерла в родах, и внезапно овдовевший «Макея» поселился вместе с Бородиным и его семьей. В госпитале молодому врачу доверили холерное отделение. Через десять дней службы он дополнительно принял две палаты Первого отделения с обязательством каждое утро присутствовать при перевязках в еще трех, которыми ведал Иван Михайлович Балинский, с утра до ночи занятый в психиатрическом отделении. Служба приносила неоднозначные впечатления. Раз пришлось вытаскивать кость из горла кучера чрезвычайно высокопоставленного лица. Во время операции щипцы сломались. Когда всё благополучно завершилось, кучер бухнулся молодому врачу в ноги. «Я же с трудом удержался от того, чтобы не ответить ему тем же самым, — вспоминал Бородин. — Подумайте только, что бы было, если бы я завязил обломок щипцов в горле такого пациента!» В детской памяти Мити запечатлелся другой случай: «В первый год службы брата ординатором госпиталя пришлось однажды ему, как дежурному, вытаскивать занозы из спин прогнанных сквозь строй шести крепостных человек полковника В., которого эти люди за жестокое обращение с ними, заманив в конюшню, высекли там кнутами. С братом три раза делался обморок при виде болтающихся клочьями лоскутов кожи. У двух из наказанных виднелись даже кости». Троекратные обмороки у врача, повидавшего виды в академических клиниках! Третий случай — знакомство осенью 1856 года с семнадцатилетним подпрапорщиком лейб-гвардейского Преображенского полка Модестом Петровичем Мусоргским. Композиторы, в будущем составившие гордость русской музыки, встречались то на дежурствах в госпитале, то на вечерах у его главного врача Корнилия Адриановича Попова. Бородин «фотографически» запомнил Мусоргского, «только что вылупившегося из яйца», то есть выпущенного в полк: «М. был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку; ножки вывороченные, волоса приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские… Он сидел за фортепьянами и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно и пр. отрывки из Trovatore, Traviata и т. д.». Осенью 1856 года Мусоргский уже играл наизусть из «Трубадура» и «Травиаты» Верди, впервые поставленных в Италии в 1853-м! Значит, не только в одежде поспевал за последним писком моды. Он уже мог гордиться некоторой известностью: была напечатана его полька «Подпрапорщик». Вот только «мальчонок» еще лет шесть не подозревал, что доктор медицины Бородин тоже пишет (и печатает!) музыку… Окончательно превратившись в химика, Александр Порфирьевич так и не перестал быть врачом. Сергей Петрович Боткин свидетельствовал о его глубоком знании медицины. К Бородину постоянно обращались за врачебной помощью, он никогда не отказывал, но в сложных случаях обязательно направлял к специалистам. В последние дни жизни Авдотьи Константиновны сын дежурил у ее постели и сам вел историю болезни — по всем правилам, лишь почерк выдавал его переживания. 1 февраля 1868 года Александр Порфирьевич вступил в Общество русских врачей и в 1886-м был избран в почетные члены. В 1874 году на музыкальном вечере у Стасова пришлось оказать помощь Ивану Сергеевичу Тургеневу: писатель успел выслушать игру Антона Рубинштейна, а когда пришел черед играть Кюи и Мусоргскому, с ним как нарочно случился жестокий приступ подагры. Когда же Бородин оказывался летом в деревне, крестьяне шли к нему лечиться, и, несмотря на все возражения, женщины в благодарность несли продукты. Через полгода после окончания академии 23-летний Бородин выдержал экзамен на степень доктора медицины, которая давала право занимать должности VII класса (то есть надворного советника, в армии — подполковника) и претендовать на потомственное дворянство. Зинин по-прежнему во всем присматривал за учеником, включая его гардероб. Профессор был легок на подъем: родился в Нагорном Карабахе, учился в Саратове и Казани, научные интересы часто заставляли его путешествовать по России и за границей, добираясь до Лондона. Возможно, безвыездное житье Саши в Петербурге, под крылом «тетушки» его беспокоило. Саша действительно был тогда исключительным домоседом, как и вся его семья, не имевшая поместий, дач или близкой родни в других городах. Поездки с Федоровым в Царское Село да к Зинину на дачу, где тот наставлял студентов в ботанике и минералогии, — вот и все вылазки за город. Неудивительно, что Бородин по-прежнему оставался болезненным юношей. Николай Николаевич предпринимал всё от него зависящее для расширения кругозора ученика. Минули год и три месяца службы того сверхкомплектным ординатором — и вот Бородин командирован на четыре месяца за границу. Цель поездки — осмотр химических лабораторий и приобретение химических приборов для alma mater, но главным образом — исполнение обязанностей секретаря и переводчика придворного окулиста Ивана Ивановича Кабата, старшего врача глазного отделения Второго сухопутного госпиталя. Тот направлялся в Брюссель на Первый международный офтальмологический конгресс, а из языков знал только латынь. Таким образом, длинный список зарубежных поездок Александра Порфирьевича начинается и завершается Бельгией. Именно там через четверть века его музыка будет безоговорочно принята и безгранично любима. Кабат и Бородин проездом осмотрели Берлин, от Франкфурта спустились на пароходе по Рейну до Кёльна. Двадцатилетней разницы в возрасте совершенно не ощущалось. В Берлине вместе отделались от назойливой попутчицы, предполагаемой родственницы Бородина княгини Имеретинской, «ибо возиться с бабьем очень скучно». В Кёльне вместе «потерялись перед колоссальным мистическим зданием» собора, потом на мосту «шибко приволокнулись за двумя девчоночками, особенно Иван Иванович» (неужели Бородин и в этом случае служил переводчиком?). Из Кёльна путь лежал в Париж. Остановились в «Отель дю Лувр». И город, и отель, и кухня, и непривычное для петербуржца изобилие фруктов — всё привело Бородина в совершенный восторг. 15 августа он отправил «тетушке» подробнейшее письмо с эпиграфом из репертуара раешников: «Вот город Париж, как въедешь, угоришь». Настроение у него было превосходное. Правда, не удалось застать никого из химиков, пришлось ограничиться визитами к медицинским светилам и осмотром лаборатории Марселена Бертло, но это путешественника не слишком огорчило. Из Парижа двинулись к главной цели. Программа была составлена с размахом — конгресс в Брюсселе закончился не ранее середины сентября. 15-го числа члены оргкомитета (редколлегия журнала «Анналы офтальмологии» в полном составе) и их дамы устроили для гостей вечер у ресторатора Дюбо на улице Пютри. Молодой врач-переводчик тоже получил приглашение. На обратном пути путешественники посетили Лондон, Вену, Прагу и Лейпциг. Поездка словно окрылила Бородина, следующий год стал в научном отношении очень плодотворным. 5 марта 1858 года на заседании физико-математического разряда Санкт-Петербургской академии наук Александр Порфирьевич сделал сообщение «Исследование химического строения гидробензамида и амарина», тогда же напечатанное в издававшемся на французском языке бюллетене академии (мудрость Авдотьи Константиновны, учившей Сашу языкам, вовсю приносила плоды). 3 мая Бородин защитил диссертацию, разработав тему на стыке медицины и химии: «Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорною в химическом и токсикологическом отношениях». К этому времени только-только стали требовать от диссертантов оригинальных исследований взамен более или менее упорядоченного изложения существующих взглядов на предмет. Бородин и физик Петр Алексеевич Хлебников впервые в истории академии защищались на русском, а не на устрашившей бы слух древнего римлянина латыни, ради передачи современных понятий немилосердно дополненной русизмами, германизмами и галлицизмами. Активное участие в диспуте на защите принял Дмитрий Иванович Менделеев. 26 ноября Бородин снова выступил в Академии наук, на сей раз с сообщением «О действии йодистого этила на бензоиланилид», также напечатанным в бюллетене. В Медико-хирургической академии тем временем происходили перемены. Как говорили, «пеликаны улетели»: ушел в отставку президент Пеликан, следом уволился его сын Евгений, профессор судебной медицины и токсиколог, кстати, занимавшийся в лаборатории Зинина. 24 января 1857 года президентом МХА стал 42-летний Петр Алексеевич Дубовицкий. Он добился подчинения академии непосредственно военному министру, минуя всяческие департаменты, и развил кипучую деятельность. Значительно увеличилось число изучаемых дисциплин, появилось восемь новых кафедр, в том числе кафедра психиатрии Балинского и кафедра гигиены. Кабат, прежде проводивший лишь практические занятия в госпитале, наконец-то получил кафедру и клинику глазных болезней. Для студентов резко уменьшили число переводных и триместровых экзаменов, что было гуманно, но пошло во вред дисциплине. 11оявился Институт врачей, снабжавший педагогическими кадрами и саму академию, и университеты. Возобновились строительство новых зданий, ремонт госпиталей и клиник, славившихся своими «ужасами». Ближайшими помощниками Дубовицкого были вице-президент академии Иван Тимофеевич Глебов и — Зинин. Благодаря им решительный перевес в Конференции «русской партии» на некоторое время свел на нет партийную борьбу и разрешил ситуацию, когда для студентов «вражеских» кафедр систематически не находилось то трупов, то препаратов. Глебов перешел в Петербург из Московского университета, поэтому вскоре была приглашена преподавать целая плеяда тамошних выпускников — Боткин, Сеченов, Юнге. Дубовицкий наибольшее внимание уделял клиникам, Глебов и Зинин — изучению теоретических дисциплин. Зинин с 1852 по 1864 год был ученым секретарем академии и входил чуть ли не во все комиссии, бесконечно учреждаемые по любому поводу. Идею, что «нужно еще не лечить, а только подготовлять будущим врачам материалы для уменья лечить», Чернышевский, можно сказать, позаимствовал у Зинина — тот всячески отстаивал первенство естественных наук в медицинском образовании. Кафедра химии расширялась. Вернувшись из поездки с Кабатом, Бородин смог перейти к Зинину ассистентом и стал руководить практическими занятиями второкурсников. Через два года он уже руководил аналогичными занятиями в Институте врачей, читал там курс химии в приложении к физиологии и патологии и курс истории развития химических теорий. Яростно громил он дуалистическую электрохимическую теорию Йёнса Якоба Берцелиуса, устаревавшую на глазах, и страстно пропагандировал новую тогда идею Шарля Жерара о реакциях двойного разложения. Летом 1858 года Бородин отправился во второе в своей жизни путешествие, на сей раз — на север Костромской губернии, в древний Солигалич. Там издавна существовал соляной промысел, в 1821 году отданный в вечное и потомственное владение купцам-старообрядцам Кокоревым. В 1823 году взамен старых истощенных колодцев владельцы начали сверлить новый артезианский и через девять лет достигли глубины в 101 сажень. Целебную силу минеральной воды быстро оценили местные жители. В 1839 году ее испробовал на себе 22-летний Василий Александрович Кокорев, будущий нефтепромышленник и миллионер. Будучи человеком предприимчивым, он уже через два года открыл в Солигаличе небольшую водолечебницу, а в 1858-м возвел новое здание, гораздо больше прежнего, и пожелал сделать подробное химическое исследование воды. По рекомендации Зинина был выбран Бородин. Александр Порфирьевич выехал в Солигалич в мае. По железной дороге добрался до Москвы, оттуда двинулся на лошадях через Ярославль, Кострому, Галич и все лето провел на водах. Петербуржец впервые окунулся в мир старинных русских городов (хотя некоторые здания Солигалича, которые сегодня кажутся весьма старинными — например, деревянные торговые ряды с колоннадой на греческий манер, — тогда были вполне новыми). Больше внимания, нежели достопримечательностям, Бородину пришлось уделить местному обществу. Соученику Павлу Матвеевичу Ольхину он сообщил: «Я здесь живу очень хорошо, полным хозяином; окружен хорошенькими дамами, которые не оставляют меня даже в лаборатории». Но в центре внимания, конечно, был качественный и количественный анализ солигаличской воды[6]. Если погода позволяла, сезон в Солигаличе начинался 1 июня. 3 июня 1859 года, то есть в самом начале нового сезона, в литературном отделе «Московских ведомостей» вышла большая статья «Солигаличские солено-минеральные воды». Вступительную часть написал Кокорев, рассказав о здоровом климате местности, о достоинствах мяса скота, пьющего местную воду, о том, как добраться до курорта и где лучше менять лошадей. За двухмесячный курс лечения купец просил шесть рублей, но добавлял: «Для всех, обременяющихся платою, приготовление ванн производится бесплатно». Основная часть огромной статьи, вскоре отпечатанной в виде отдельной брошюры, принадлежит перу Бородина. «Солигалич лежит к северо-востоку от города Костромы, при реке Костроме. Река начинается верстах в тридцати от города и здесь еще не широка. Город расположен на ровном месте и окружен со всех сторон незначительными плоскими возвышенностями, покрытыми большею частью хвойным лесом: елью, сосною, можжевельником. К северу, по направлению дороги в Тотьму, местность делается еще более возвышенною и лесистою. Здесь местами находятся ключи пресной воды, которые, стекаясь, образуют несколько ручьев. Один из таких ручьев проходит через самый город Солигалич и впадает в р. Кострому», — неспешно начинает Бородин повествование и так же неспешно говорит о геологическом строении местности, об истории соляных промыслов и основании курорта. Далее он подробно описывает предпринятый химический анализ, не упуская ни одной реакции, и резюмирует: «Из этих анализов видно, что соли галичские воды принадлежат к соляным минеральным водам, содержащим незначительное количество сероводорода и железа, и походят по составу на старорусские, деденгские и многие другие соляные воды». Занимаясь в лаборатории, Бородин замечал, что происходит в общем зале, в буфете, в помещении для музыкантов и, конечно, в двадцати ваннах. В своей статье он не забыл рассказать обо всех лечебных процедурах, о диетах для пациентов, разобрал десять характерных примеров лечения на Солигаличском курорте, привел исчерпывающие списки показаний и противопоказаний и заключил: «Впрочем, невозможно исчислить всех частных случаев, при которых лечение водами уместно или неуместно, и при этом необходимо руководствоваться индивидуальностью каждого больного. Здесь, как и при всяким лечении, прежде всего должно иметь в виду общее состояние здоровья пациента, ибо в строгом смысле мы никогда не лечим болезни, но лечим больного». Так мыслил тогда Бородин, химик и врач, человек разносторонних интересов. Кокорев получил отличную рекламу, а Бородин — гонорар три тысячи рублей и уже четвертую научную публикацию. Курьезным образом под статьей Кокорева и Бородина редакция «Московских ведомостей» поместила объявление: «В среду, 3-го июня, по болезни г. Садовского, вместо объявленной комедии: «Недоросль», русскими придворными актерами представлено будет: «Минеральные воды», водевиль в 1-м действии…» Этот старый-престарый водевиль Эжена Скриба в 1850 году был переведен на русский язык Дмитрием Тимофеевичем Ленским (Воробьевым), что свидетельствует об актуальности курортной темы. Испробовал ли молодой доктор медицины на себе целебность вод? Неизвестно. Брал ли в Солигалич брата Митю, страдавшего золотухой? Вряд ли. Водолечебница ныне носит название «Бальнеологический санаторий имени А. П. Бородина», а уроженец Солигалича химик Николай Александрович Фигуровский стал одним из биографов нашего героя. Ранней осенью 1859 года на вечере у профессора академии Степана Алексеевича Ивановского жизнь снова свела Бородина с Мусоргским. Возмужавший «мальчонок» огорошил молодого химика заявлением, что «специально занимается музыкой, а соединить военную службу с искусством — дело мудрёное». Его выход в отставку после обязательных двух лет службы, конечно, объяснял, отчего Мусоргский, разом лишившийся и строевой подготовки, и верховой езды, начал полнеть. Само же решение Бородина озадачило, что неудивительно. У Мусоргского была служба, состоящая из одних дежурств и караулов, жалованье, далеко не покрывавшее неизбежных расходов петербургского гвардейского офицера, и дававшее некоторый доход имение. У Бородина была любимая профессия, сулившая и положение в обществе, и материальное благополучие, шедшая к разорению «тетушка», «двоюродные» братья-подростки и крепнущее чувство ответственности. Хозяева усадили их играть в четыре руки Шотландскую симфонию Мендельсона, затем Мусоргский снова огорошил знакомого, наиграв отрывки из Рейнской симфонии Роберта Шумана — совершенно нового для Бородина композитора. Скерцо самого Мусоргского, вскоре затем исполненное под управлением Антона Рубинштейна в концерте Русского музыкального общества, Александра Порфирьевича просто изумило. О своих композициях он вновь промолчал. Он вообще во многих ситуациях предпочитал хранить молчание, даже к Зинину на младших курсах долго не решался подойти. От этого периода не осталось никаких музыкальных сочинений. Продолжалось хождение с виолончелью к Гаврушкевичу и, вероятно, общение на предмет музыкальной теории с чехом Иосифом Карловичем Гунке, скрипачом, органистом, автором учебника гармонии (1852), а в недалеком будущем — и учебника композиции (1859). Гунке предпочитал говорить с учениками по-немецки, но Бородина это смутить не могло. Продолжалось посещение иных кружков и вечеров, танцы, вероятно, импровизация на фортепиано новых вальсов, полек и мазурок. Продолжалось и то, что позднее в письме жене Бородин назвал «давно прошедшим периодом моего мусикииствования, когда я посещал еще певческие упражнения, где, бывало, пелись: всякие Mia letizia, fra росо, романсы Гурилева, Варламова и Вильбоа. Вообрази, что и теперь в подобном кружке поется совершенно то же самое: те же fra росо, те же «Пловцы» Варламова, те же «Моряки» Вильбоа… Те же песни, те же нравы, та же маленькая зависть, крошечные интрижки между поющими, громадные самолюбия, торжествующие или оскорбленные! Кажется, как будто все это окаменело…». Бородин упомянул каватину Оронто из «Ломбардцев» Верди и сцену Эдгара из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти — музыку 1830—1840-х годов. Мусоргский, игравший отрывки из «Трубадура» и «Травиаты», был на этом фоне просто авангардистом! Итак, музицирование Бородина продолжалось на старый лад, работа на нотной бумаге не велась — серьезные помыслы были всецело отданы химии. Каков был Александр Порфирьевич в то время? Веселый, обаятельный, отменный танцор — весь в «тетушку». Исключительно хорош собой, скромен, воспитан, недурной пианист, не прочь и в пении поучаствовать, обладая тенором, — одним словом, всеобщий любимец и желанный гость в любом доме. Он очень нравился женщинам, но мемуаристы в один голос утверждают, будто Александр Порфирьевич мало обращал на них внимания. Митя приводит комический случай, произошедший в Солигаличе: «Барыни преследовали его своими ухаживаниями, и однажды некоторая Б., вызвавшись довезти его до квартиры, которую он занимал, привезла его в свое имение, находившееся в нескольких верстах от Солигалича. Барыня красивая и роскошная признавалась ему по приезде, что она похитила его и что он теперь в ее руках. Затем она отправилась переодеваться и вернулась облаченной в богатый пеньюар. Появилась закуска и вино, и брат, по непривычке к нему, несколько захмелел. Когда же он улегся на постланной ему в зале постели и хозяйка явилась проведать его ночью, то нашла — увы! — спящим крепчайшим сном праведника. Наутро брат, сконфуженный, поспешил уехать из-под чересчур гостеприимного крова». Очень типичная для Бородина ситуация: он скорее холоден, чем пылок, но не протестует, не спасается бегством, а как бы нечаянно исчезает в объятиях Морфея… Если, конечно, при рассказе «тетушке» крепость сна праведника не была преувеличена.Глава 5 «ОН ИЗ ГЕРМАНИИ ТУМАННОЙ ПРИВЕЗ УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ…»
Вечером 27 октября 1859 года из Петербурга по Петергофской дороге выехала почтовая карета. На одном из двух наружных мест помещался Бородин. «Земную жизнь пройдя до половины» (о чем никто тогда не подозревал), он был послан с высочайшего разрешения за границу на два года для усовершенствования в науках и подготовки к должности адъюнкт-профессора. В обеспечение поездки за ним сохранялось жалованье в госпитале, к которому академия добавляла еще тысячу рублей серебром. Выданный военным генерал-губернатором Петербурга паспорт предписывал местным властям «доктора Медицины Бородина… не токмо свободно и без задержания везде пропускать, но и всякое благоволение и вспоможение оказывать». Молодой человек рассчитывал за три-четыре дня достичь Кёнигсберга, откуда начиналась тогда железная дорога. Какое там! Миновав Нарву, пришлось в Эстляндии и Лифляндии прочувствовать все прелести скверного тракта, плохо подкованных лошадей и в довершение повстречать «потомка ливонских рыцарей» в лице нахального почтового чиновника, морившего проезжих голодом. Лишь в Курляндской губернии наконец покатили резво. 1 ноября Бородин был в Таурогене, на другой день — в Тильзите и через шесть дней пути прибыл в Кёнигсберг. Уже начались морозы, пошел снег. Путешественник спал, сидя снаружи кареты и укрываясь кожаной «занавеской», но не жаловался. Авдотья Константиновна позаботилась о теплой экипировке, «маменька» напекла в дорогу крендельков, ром он предусмотрительно захватил сам. Согласно полученному от Зинина напутствию за границей следовало за два года изучить методы теоретической и прикладной химии в парижских лабораториях Вюрца, Бертло и Сент-Клер Девиля и в лондонской лаборатории Аугуста Гофмана. С целью знакомства с современным приложением химии к физиологии и медицине требовалось поработать у Шерера в Вюрцбурге и у Либиха в Мюнхене. Надлежало также посещать фабрики, заводы и месторождения полезных ископаемых в Англии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Силезии, Франции и Чехии. Но прежде всего — отправиться в Гейдельберг, дабы в лаборатории Ро-борта Вильгельма Бунзена постичь газометрию. Дважды в год от Бородина ожидали отчетов. Первый же день в Гейдельберге внес в этот план сумятицу. Около полудня Бородин и его случайный попутчик ботаник Боргцов, два года проведший с научными целями в Киргизской степи и даже побывавший у киргизов в плену, а ныне чинно следовавший из Дерпта в Вюрцбург, прибыли в город. Пошли пообедать и встретили Сеченова с Менделеевым. Менделеев приехал еще весной и тоже планировал работать у Бунзена, но ни обстановка, ни оборудование ему не подошли. Он предпочел обустроить дома собственную лабораторию, куда и потащил Бородина сразу после обеда. Осмысливая новую информацию, Бородин вместе с Борщовым отправился впервые по выезде из Петербурга помыться. Что делают химик и ботаник, пока им готовят ванны? В четыре руки играют увертюру к «Жизни за царя»! Гак совпало, что хозяйка ванн заодно сдает напрокат фортепиано и фисгармонии, а Борщов — хороший музыкант и приверженец «нашего» направления, то есть фанатичный поклонник Михаила Ивановича Глинки. Логично спросить: что это за «наше» направление, какой таинственный музыкальный кружок за ним стоит, Бородин ведь еще не вошел в «Могучую кучку»?.. Искупавшись и приценившись к фортепиано, Александр Порфирьевич возвращается в гостиницу «Баденский двор». После Петербурга всё кажется неприлично дешевым, предстоящие два года командировки рисуются вечностью — начинается новая прекрасная жизнь. О пребывании Бородина за границей известно едва ли не всё. Он официально отчитывался перед академией, полуофициально — перед ее главой Дубовицким, принимавшим участие в судьбе своего будущего профессора, и совсем неофициально — перед Зининым. Обстоятельные послания отправлялись Авдотье Константиновне и по-прежнему жившему в семье Максе Сорокину, а через него, тайно, — «маменьке». Оплаченные авансом письма почта с легким сердцем теряла, посланные наложенным платежом доставляла аккуратнее. Не в пример эстляндским лошадям, события понеслись галопом. Снял комнату. Закупил на всю зиму буковых дров. Взял напрокат фисгармонию, абонировался в библиотеке на книги и ноты. Восхитился чистеньким городом («по субботам неуклюжие немки моют не только тротуары, но и улицы») и романтическими окрестностями: «С одной стороны горы (на одной из них чудные развалины замка, обросшие плющом), с другой стороны прекрасная река». Посетил концерт местного симфонического общества. От жены офтальмолога Эдуарда Юнге (урожденной Толстой) получил сборник арабских песен Сальвадор-Даниэля, который много лет спустя чуть-чуть пригодится для половецких сцен «Князя Игоря». Ужаснулся любви немцев сплетничать и нелепости местных студенческих обычаев. Побывал в суде присяжных и осмотрел тюрьму из одних одиночных камер. В немецком театре вкусил всю бессмысленность пьесы «Расточитель». В Висбадене впервые увидел рулетку, которая произвела тяжелое впечатление: показалось, будто попал в дом умалишенных. Это не метафора, это мнение выпускника Медико-хирургической академии, где имелась собственная психиатрическая клиника. Бунзен, то занимавшийся с начинающими, то погружавшийся в чистую физику и к тому же заметно терявший слух, Бородина как руководитель не привлек, однако он заглядывал в его лабораторию: изобретение спектрального анализа и открытие с его помощью цезия и рубидия не прошли мимо внимания Александра Порфирьевича. Заниматься органической химией оказалось продуктивнее в лаборатории приват-доцента Эмиля Эрленмейера, здесь Бородин принялся за способы получения новых кислот. Не прошло и месяца, как начались стремительные перемещения — столько хотелось успеть! Пришлось метнуться за материалами для работы в Дармштадт, за приборами — в Париж, в обществе Менделеева и Сеченова. В Париже Бородин наконец-то застал Бертло, который провел с ним настоящий «мастер-класс». Сеченову же это короткое (чуть больше недели) пребывание в Париже запомнилось непрерывными танцевальными вечерами, посещениями театров, бурными ужинами и маскарадом в Опере, где гений физиологии угощал балерин конфетами. Весной Бородин ездил осматривать цинковые рудники в Вислохе, неподалеку от Гейдельберга. В июле отправился проводить в Бонн жену Модеста Яковлевича Киттары — казанского студента Зинина, в котором Николай Николаевич разглядел прирожденного технолога. Позднее Киттары был специально приглашен в Москву Обществом купцов и фабрикантов, чтобы занять кафедру технологии Московского университета. Он руководил Московской практической академией промышленных наук, выпускал «Журнал Московского общества сельского хозяйства» и газету «Промышленный листок». Этого великого практика, специалиста по кожевенному делу, винокурению, товароведению, консервированию продуктов, мыловарению московские промышленники только что на руках не носили… В Бонне Бородин не сошел на берег, а поплыл дальше до самого Роттердама. Вернувшись в августе в Гейдельберг, Бородин обнаружил там Зинина, который готовился к обустройству в МХА повой лаборатории и с этой целью объезжал научные угодья немецких и французских коллег. Втроем с Менделеевым двинулись в Швейцарию (болезненность Бородина явно осталась в прошлом). Пылкий неугомонный Менделеев, любивший много ходить пешком, видел больше всех, запомнил больше всех и записал больше всех. В том числе общие для всех троих впечатления от грандиозного органа в швейцарском Фрайбурге: «Сумерки. В церкви освещен был только орган и горела одна лампада на алтаре. Среди этой романтической обстановки рождались звуки, в которых слышалось все, что никакой оркестр не может выполнить. Особенно поразительны звуки, подражающие человеческому пению». Из Швейцарии прибыли в Карлсруэ, где уроженец Петербурга, но при этом природный немец Карл Вельцин принимал у себя первый в истории Международный химический конгресс, собравший весь цвет науки —150 химиков. Это было эпохальное событие: решались фундаментальные вопросы разграничения понятий молекулы и а тома, определения атомного веса, выбор единообразной системы обозначений. Решающую роль сыграл доклад Станислао Канниццаро (Бородин тут, кажется, впервые обратил внимание на итальянскую науку). Молодой, но представительный и хорошо говоривший на всех языках русский химик оказался в своей стихии. С тех пор он с энтузиазмом относился к конгрессам, съездам, обществам, будь то научные или музыкальные. В комитет из тридцати ученых, занимавшийся формулировкой проблем, он не вошел и на сессиях, по-видимому, не выступал, но принимал участие в голосованиях. Зинин отправился домой, Бородин с Менделеевым — обратно в Гейдельберг, где пробыли всего около полутора месяцев (по-видимому, деля в целях экономии одну комнату). Затем оба направили стопы в Рим. Шел 1860 год, Италия отвоевывала независимость. Прошло всего несколько месяцев после сицилийского похода Гарибальди, давшего возможность патриоту Канниццаро наконец-то вернуться в родной Палермо после двенадцатилетнего запрета под страхом смертной казни. Естественно, австрийцы на итальянской границе тщательно проверяли всех путешественников. Менделеева и Бородина задержали и отвели в отдельную комнату, Бородину велели раздеться, что тот и сделал с несерьезным видом, да еще ногами «антраша выкинул». После обыска друзей отпустили, поезд тронулся — итальянцы вдруг кинулись за что-то благодарить русских. Выяснилось, что в том же вагоне ехал революционер, которого австрийцы проглядели, приняв за него Бородина. Из Генуи двинулись в Чивитавеккья, оттуда в Рим. В соборе Святого Петра Бородин видел папу в окружении кардиналов. В обществе Менделеева скучать не приходилось, с утра до вечера оба без отдыха осматривали церкви, музеи и усиленно посещали представления в «народных» театриках. Значит, итальянский язык уже тогда был им несколько понятен (позднее Александр Порфирьевич говорил на нем совершенно свободно). Из Рима путь Бородина вновь лежал в Париж. Там он поселился вместе с химиком Валерианом Савичем, прежде тоже работавшим у Эрленмейера. Оба вступили в Парижское химическое общество, основанное в 1858 году Шарлем Адольфом Вюрцем. 13 (25) ноября Бородин уже хвастался Менделееву, что читал в обществе «одну из моих х… на заячьем меху», то бишь делал научный доклад. Вот только денег на вступительный взнос долго не было, перевод из Петербурга запаздывал. Русские, привыкшие дома к хорошему отоплению, в Париже зимой мерзли. Бородин отделался недельным недомоганием. К большому удивлению соседа, дипломированный врач ни к каким медицинским средствам не прибегал — просто лежал на диване и ничего не ел, пока хворь не прошла. Он действительно не любил лечиться и до последних дней жизни не переменил своих привычек. Неудачник Савич упорно занимался синтезом ацетилена, который наконец осуществил чуть ли не день в день с казанцем Мясниковым, и переводил на французский свежие статьи Менделеева. В ту зиму у него началась болезнь, через два года сведшая его в могилу. Кажется, весь Петербург в ту зиму переехал в Париж. Бородин собрался было встречать Новый год у Тургенева. Историк Степан Васильевич Ешевский, собиравший во Франции материалы для диссертации о королеве франков Брунгильде, сообщал жене в Москву: «Я иду встречать… к Тургеневу вместе с М. Ал.[7], Бородиным, Пассеком и только. Назвались было другие, и это едва ли не расстроилось, но Тург. придумал сказать, что он может быть дома только в 11 часов вечера и, таким образом, дело уладилось». В итоге именно Бородин решил, что у Тургенева обязательно засидятся до утра, и не пошел к нему, а тихо-мирно направился в гости к одному из соучеников по академии, но… «Тут оказались барыни, имеющие ложу на Bal de l’Орéга, но имеющие одного только кавалера. Они пристали ко мне, чтобы я ехал. Делать нечего — я как был в сюртуке и без перчаток и поехал. Пробыл там до 5 утра». О русские барыни, они всегда умели рушить его планы! На Масленице снова пошли балы, а там пришлось наблюдать местные пережитки язычества — конкурс на самого толстого быка: «Быка, украшенного венками, гирляндами etc., etc., везут на колеснице, при нем состоят мясники, одетые жрецами; сзади колесница, наполненная огромным числом «древних богов» на французский лад; между богинями попадаются очень недурные. При появлении быка в народе подымается шум, гвалт, точно при появлении императора. Вот разница между немцами и французами: у первых «Marktezug» шумит и восторгается, а зрители, уткнув рыло в землю, глубокомысленно молчат, у французов наоборот». Тем временем Бородин оборудовал на квартире лабораторию и занялся молекулярной поляризацией. Кроме того, ходил учиться выдувать стеклянную посуду. Если в Гейдельберге он систематически посещал только курсы ботаники и минералогии, то в Париже у него глаза разбежались: слушал курсы Анри Виктора Реньо о пресловутом «теплороде», Анри Гюро де Сенармона — о физических свойствах кристаллов, день за днем метался между добрым десятком учебных заведений, анализируя манеру подачи материала профессорами. Впоследствии Бородин сделался блестящим лектором, очень ясно излагавшим предмет. Идеалом для него остался Клод Бернар, читавший в начале 1861 года курс «о крови и других жидкостях организма» так, ч то «каждая лекция врезывается в памяти слушателя, без всякого усилия со стороны последнего». Срок командировки Менделеева заканчивался, выхлопотать дополнительный (третий) год не удалось. Дмитрий Иванович собирался домой в раздумьях, соглашаться ли на место в Горы-горецком земледельческом институте, тогда еще не переведенном из Могилевской губернии в Петербург, или ехать наудачу прямо в столицу. Вот и Бородин прикинул оставшееся до возвращения в Россию время, вздохнул мечтательно об Испании и пустился в «прощальный тур». Весной 1861 года из Парижа — снова в Италию. Во Флоренции восхитился галереей Уффици и бесподобным мороженым, через Сиену с трудом добрался на фабрику в Лагони, где видел целое море борной кислоты. Не позднее 26 апреля (нового стиля) прибыл в Неаполь и оставался там как минимум до 14 мая. Хотя 12 дней он проболел желтухой, но все же успел, по-видимому, совершить восхождение на Везувий, поскольку собрал для музея академии коллекцию лав вулкана и его второй вершины — Монте-Сомма. Везувий был спокоен, следующее его извержение случилось только в 1867 году. Возможно, Бородин нанес визит в недавно открытую Обсерваторию Везувия, где уже развернулось изучение вулкана. Затем через Швейцарию он двинулся в Вюрцбург, чтобы изучать физиологическую химию у Иоганна Иосифа Шерера, но что-то пошло не так, и через две недели он уже постигал практическую кристаллографию у Германа Коппа в Гиссене. 17 марта Конференция Медико-хирургической академии по просьбе Бородина, которую тот мотивировал большим числом изучаемых дисциплин, встретившимися препятствиями и неготовностью лаборатории в Петербурге, продлила командировку на год, до августа 1862 года. Вернувшись наконец в Гейдельберг, Бородин снова обосновался у Эрленмейера и занялся действием хлоройодоформа на цинк-этил, в январе того же года полученный Менделеевым. В том же году он разработал способ получения бромзамещенных жирных кислот и открыл реакцию, сегодня известную как реакция Бородина — Хунсдиккера. 19 сентября на берегах Рейна в Шпайере (в 15 километрах от Гейдельберга) Бородин на 36-м съезде Общества немецких естествоиспытателей и врачей слушал исторический доклад Александра Михайловича Бутлерова «О химическом строении веществ», довольно прохладно встреченный немецким большинством. Тем временем в Гейдельберге учредилось «домашнее» Русское химическое общество — прообраз будущего «настоящего». В этот период своей жизни Бородину довелось в первый и единственный раз выступить в суде в роли адвоката. Однажды он с другим химиком, Петром Петровичем Алек-соевым, переправлялся через Неккар. Алексеев повздорил с лодочником и обозвал его свиньей, но, плохо зная язык, перепутал артикль. Получилась грамматически невозможная фраза: Du bist der Schwein. Лодочник рассердился и потащил обидчика к судье. Там Бородин на чистейшем немецком произнес речь, суть которой заключалась в следующем: раз у Алексеева не получилось выругаться по-немецки, то и оскорбления не было. Все это «адвокат» изложил так комично, что к концу выступления и судья, и лодочник умирали со смеху. В этом весь Бородин с его умением мирно разрешать конфликты — спокойно и с юмором! А всё же в Гейдельберге обходиться без знания немецкого языка временами было легче, чем в Медико-хирургической академии. Русская колония была многочисленной, неожиданно для себя Бородин даже обзавелся некоторой медицинской практикой. Недаром Тургенев в «Отцах и детях» (1862) именно в Гейдельберг отправил незабвенную Гвдоксию Кукшину, хваставшуюся Базарову: «— А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику. — Мастику? Вы? — Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос?» Именно перед гейдельбергской русской колонией писателю пришлось затем оправдываться за свой роман, так велико было негодование. Достоевский иронизировал: Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ, да еще прибавили, что он идет против эмансипации женщины». «Женский вопрос» в Гейдельберге интересовал буквально всех. Жизнь била ключом, радости сплетались с трагедиями. Многие дамы жили врозь с мужьями, некоторые даже официально. «Вольнолюбивые мечты», традиционно вывозимые юношеством из Германии, олицетворяла собой кузина Герцена Татьяна Петровна Пассек, любившая приглашать к себе молодых ученых. У нее те обычно встречали писательницу Марию Вилинскую (она же Марко Вовчок). Сеченову она сразу не понравилась, Бородин при первом знакомстве нашел ее «премилою барынею», но ни тот ни другой не знал, какие события вскоре развернутся вокруг нее. В декабре в Гейдельберге давали обед в честь Герцена. Тон задавали, естественно, поляки, и вот они почему-то объявили, что не будут сидеть за одним столом с Владиславом Олевинским — перспективным химиком-органиком (ему только что удалось синтезировать ацетон). Олевинский был человек впечатлительный и, что еще хуже, переживал несчастную любовь к Марко Вовчок. Той, однако, было не до химика: только что из-за очередного романа она рассталась с мужем. Олевинский сжег свои бумаги и отравился цианистым калием, написав в предсмертной записке, что боится правительства (якобы всех, кто был на декабрьском обеде и кто хотя бы собирался туда пойти, ожидает ссылка), так все в его голове смешалось. Основные события происходили, когда Бородина в Гейдельберге не было, но он тяжело переживал этот случай. Многие приезжали из России в злой чахотке — Бородин одного за другим потерял нескольких знакомых. Среди них была богатая, добрая и симпатичная Анна Павловна Бруггер, кормившая молодых химиков щами и кулебяками и особенно баловавшая Бородина: чинила его перчатки, завязывала галстук, даже причесывала его… От общения с «глупыми аристократами» Бородин в письмах всячески открещивался. Но вот повстречались ему племянники Лукаши, откуда-то возник то ли новый знакомый, то ли дальний родственник по линии Гедиановых — князь Николай Иванович Кудашев, большой оригинал, химик-любитель, позднее сыгравший свою маленькую роль в появлении «Князя Игоря». И еще один компрометирующий факт: Бородин стал учиться верховой езде! ...Все права на текст принадлежат автору: .
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Скачать или читать эту книгу на КулЛиб
Скачать или читать эту книгу на КулЛиб