Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.
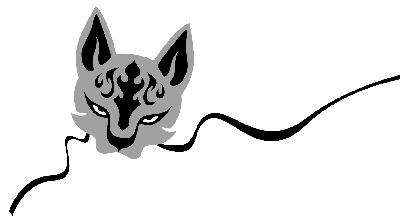
Мо Янь Смерть пахнет сандалом
Mo Yan The Sandalwood Torture© Егоров И., перевод на русский язык, примечания, 2024 © Батыгин К., перевод на русский язык, примечания, 2024 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *
Книга I. Голова феникса
Глава 1. Пустая болтовня Мэйнян
Солнце вскинулось ярким багрянцем (словно восточный край Неба озарил пожар). Прибыли с бухты Цзяочжоу немецкие войска (сплошь рыжебородые и зеленоглазые мужланы), стали в поле сооружать железную дорогу, перекопав могилы всех наших предков (ну как здесь не воспылать праведным гневом?!). Отец родной повел людей против немцев. Бах! Бум! Не стихали пушки (от грохота уши отказывались слышать). А глазам открывалось лишь залитое алым цветом столкновение противников. Взметались мечи, махали топоры, ударяли вилы. Весь день лилась кровь, не сосчитать было перебитых людей (ах, как перепугалась ваша покорная слуга!). Вот и посадили моего батюшку в камеру для смертников, а названый отец назначил ему (моему родному отцу!) пытку сандалового дерева!Отрывок из маоцян «Казнь сандалового дерева», «Песнь о великой скорби»
1
На рассвете того дня моему свекру Чжао Цзя и во сне не могло присниться, он и думать не мог, что через семь дней умрет от моей руки, смертью, более бесславной, чем у старого пса, верного своему долгу. Я даже подумать не могла, что такая простая девка, как я, сможет удержать острый клинок и убить собственного свекра. Впрочем, тем более я представить себе не могла, что свекор, свалившийся на меня будто бы с неба полгода назад, окажется заплечных дел мастером, способным убить человека и глазом не моргнуть. Свекор мой носил маленькую шапочку с кисточками, похожую на дынную корку, длинный халат и куртку поверх него, крутил четки в руках, прогуливаясь по двору. Процентов на восемьдесят он напоминал официально отошедшего от дел чиновника, процентов на девяносто – почтенного отца семейства, чей дом полон детей и внуков. Но он не почтенный отец семейства и тем более не чиновник, свекор мой – главный палач судебного зала столичного министерства наказаний, первый клинок Великой Цинской империи, мастер рубить головы, знаток жестоких наказаний прошлых эпох, а также специалист по изобретению и изготовлению орудий пыток. В министерстве наказаний он служил почти сорок лет и голов напоотрубал, как он сам говорил, больше, чем собирают в год арбузов во всем уезде Гаоми. Вечером того дня мне было тревожно на душе и не спалось. Я ворочалась на лежанке-кане[1] туда-сюда, как большой блин. Мой отец Сунь Бин был брошен в тюрьму по приказу начальника уезда Цянь Дина, последнего сукина сына, человека предельно распущенного в своей беспощадности. Какой бы он ни был плохой, Сунь Бин же мне отец, вот на душе кошки и скребут, и сон не идет. Чем дольше не спится, тем тоскливей на душе, чем тоскливей на душе, тем больше не до сна. Слышу, как мясные псы хрюкают за оградой, как жирные свиньи лают в хлеву. Свиньи лают, как псы, собаки хрюкают, как свиньи. Смерть их близка, а они еще и представление устраивают. Хрюкающая собака – все равно собака, а лающая свинья остается свиньей. Вот и отец неродной – все же отец. Хрю-хрю-хрю. Гав-гав-гав. Как же надоели эти звуки, докучают они мне. Понимают, твари, что скоро им конец. Смертный час отца тоже не за горами. Такие вещи звери чувствуют острее, чем люди, ощущают разносящийся с нашего двора запах крови, видят, как прогуливаются в лунном свете стаи собачьих душ и стада свиных духов. Знают, что завтра рано утром, когда заалеет солнце, им настанет время свидеться с Янь-ваном[2]. Они беспрестанно кричат, издают вопли перед гибелью. А как ты, батюшка, там, в камере смертников? Хрюкаешь ли, лаешь ли? Или заходишься «кошачьими» ариями из маоцян? [3] Слышала я рассказы тюремщиков, мол, в камере смертников достаточно протянуть руку, чтобы набрать целую пригоршню блох, а тамошние клопы жиреют, разрастаясь до размеров крупных горошин. Ах, батюшка, батюшка, вот и прошли твои счастливые дни, когда вокруг тишь да гладь. Ты и думать не думал, что свалится каменная глыба и всей тяжестью придавит тебя в камере смертников… Клинок входит белым, а выходит красным. Мой муж Чжао Сяоцзя – большой мастер по части забоя собак и свиней, его хорошо знают во всем уезде Гаоми. Здоровенный, плешь на полголовы, гладкий подбородок, днем ходит одуревший, ночью лежит бревном. Со дня нашей свадьбы раз за разом слышу от него сказку про усы тигра, ему еще мать ее рассказывала. Не знаю уж, какие подлецы так будоражат Сяоцзя из раза в раз, но в ночи он все пристает ко мне, чтобы я добыла ему вьющийся золотистый волосок из усов тигра, который, если сунуть в рот, помогает распознать истинный облик человека. Пристает ночь за ночью, болван, просто рыбий пузырь какой-то, никакого сладу с ним нет. Пришлось сказать, что добуду. Этот дурак сворачивается в голове кана, храпит, зубами скрипит, да еще и приговаривает во сне: «Папка, папка, папка, смотри, смотри, смотри, яичко почеши, лапшу отбрось…» Надоел до смерти! Толкаешь его ногой, а он съеживается, переворачивается на другой бок, причмокивает языком, словно только что съел что-то вкусное, и продолжает бормотать, беспрерывно храпеть и скрипеть зубами. Ну его, слабоумного! Буду спать, не обращая на него внимания! Согнувшись, я села, опираясь спиной о холодную стену, выглянула в окно, где расплескивается, как вода, и разливается по земле свет луны. Собачьи глаза в хлеву сверкают зеленоватым светом, как маленькие фонарики, одна пара, две, три… Много их. Печальную мелодию выводят осенние насекомые. Стуча деревянными подметками непромокаемых сапог, идет ночной сторож, улица выложена голубоватыми плитками, стучит колотушка, доносятся звуки гонга. Третья смена стражи[4]. Третьи стражи, глубокая ночь, кругом тихо. Весь город спит, только не спится мне, не спят и свиньи, не спят и собаки, не спит и мой отец. Слышится хруст, это мышь грызет деревянный сундук. Швыряю в нее огрызком метлы, мышь убегает. В это время из комнаты свекра доносится слабый шорох. Опять катятся горошины по столу. Потом я узнаю, что старый хрыч считает не горошины, а человечьи головы; одна горошина – одна человечья голова. Ублюдок даже во сне думает вслух об отрубленных головах. Дрянь старая… Я вижу, как он поднимает меч, наносит удар сзади по шее отца, голова катится по улице, за ней бежит стайка ребятишек, детишки пинают голову. Чтобы избежать преследования ребятни, голова запрыгивает на ступеньки моего дома, потом закатывается во двор. Она кружит по двору, за ней с лаем бежит собака. У головы отца опыт большой, несколько раз собака чуть не укусила. Но сзади-то у башки еще есть коса, которая проходит наискосок и бьет собаке прямо в глаза. Собака воет и сам пошла ходить кругами. Избавившись от собаки, голова отца стала кататься по двору, как огромный головастик плавает в воде. Длинная коса волочится сзади, как хвост… От кошмарного сна меня пробудили колотушка и четвертая смена стражи. Я проснулась вся в холодном поту. Моих сердец стало множество, и все они страшно колошматили. Свекор все еще считал свои горошины, дрянь старая. Только теперь я поняла, почему он так страшит людей. От его тела веяло холодом, и это чувствовалось даже на расстоянии. Он прожил в своей выходящей на солнечную сторону комнате всего полгода, а там уже было холодно, как в могиле, так мрачно и страшно, что даже кошка не осмеливалась ловить там мышей. Я не решалась входить к нему, потому что вся покрывалась гусиной кожей. Когда Сяоцзя было нечего делать, он проникал в эту комнату, приставал к отцу, чтобы тот потчевал его сказками, надоедливый, как трехлетний ребенок. В самые жаркие летние дни он вообще не выходил из комнаты отца, даже со мной не спал. Отец у него был за жену, а я за отца. Чтобы не проданное за день мясо не завонялось, Сяоцзя подвешивал его на балку в отцовой комнате. Ну и кто скажет, что он дурачок? Кто скажет, что он не глупый? Когда свекор изредка выходил на улицу, даже злые кусачие собаки, повизгивая, забивались в уголки стен. Рассказывают еще более удивительные вещи: мол, однажды свекор похлопал ладонью большой тополь на улице, дерево задрожало беспрестанной дрожью так, что все листья зашелестели. Вспомнился мне собственный отец Сунь Бин. Батюшка, ты на этот раз заважничал, верно, как Ань Лушань[5], переспавший с императорской наложницей Ян-гуйфэй[6], или как Чэн Яоцзинь[7], похитивший планы правителей Суй[8]. Это не предвещает ничего хорошего, трудно сохранить жизнь. Пришел на ум Цянь Дин, господин Цянь, выходец из цзиньши[9], чиновник пятого класса, начальник уезда, без пяти минут помощник правителя области, отец родной для народа, мой названый отец, старый обезьяний дух этакий. Отвернулся от меня и не признает. Как говорится, не смотри на монаха, смотри на Будду, не гляди на рыбу, нужно еще на воду поглядеть. Эй, господин Цянь… Вдобавок к личным отношениям, когда я на эти три года стала женщиной, к которой ты мог забираться на кан, вспомни и о том, что за три года ты выпил у меня столько кувшинов подогретого желтого вина, съел столько пиал жирной собачатины, прослушал столько пропетых мной отчетливо и мелодично арий маоцян. Подогретое желтое вино, жирная собачатина, женщина, возлежащая на кане. Господин, я вам прислуживала лучше, чем прислуживают государю. Господин, я поставила на кон тело, что глаже сучжоуского шелка, слаще дыни, засахаренной в гуаньдунском сахаре[10], и шла на все любовные игры, столько раз позволяла вам постичь истинно сущий Путь, столько раз давала вам возможность стать небожителем. Почему же ты не можешь быть милостивым к моему отцу? Почему ты вошел в сговор с этими немецкими дьяволами[11], которые схватили моего отца и сожгли мою родную деревню. Знай я, что ты такая дрянь безжалостная, вылила бы желтое вино в ночной горшок, закопала бы собачатину в свином хлеву, арии пела бы в глухую стенку, тело свое бросила бы псам…2
С беспорядочным стуком колотушки наступил рассвет. Я спустилась с кана, надела все новое, помыла лицо, напудрилась, наложила румяна, втерла в голову лавровое масло. Достала из котла разваренную собачью ногу, завернула ее в листья лотоса и сунула в корзинку. С корзинкой в руках вышла на улицу навстречу все еще льющемуся с запада лунному свету и по выложенной плиткой дорожке зашагала к уездной управе. С тех пор, как отца арестовали и заключили в тюрьму, я каждый день ходила навестить его, но так ни разу и не попала к нему. Цянь Дин, сволочь ты этакая! В прошлом, если меня не было три дня с собачатиной, ты посылал за мной Чуньшэна, ублюдка мелкого, а теперь вообще стал прятаться, чтобы не встречаться со мной. А еще поставленные тобой перед воротами управы стражники с дробовиками и луками, которые всегда держались со мной особенно почтительно! Мелочь подлая! Прежде им не терпелось бухнуться на колени и отбивать земные поклоны. Теперь, морды собачьи, напускают на себя свирепый вид и норовят передо мной важничать. А ты еще взял да поставил перед воротами четырех немецких солдат с их чужеземными винтовками! Когда я с корзинкой приблизилась, они нацелили мне в грудь штыки. Скалятся во весь рот, но, похоже, не шутят. Эх, Цянь Дин, Цянь Дин, предатель ты, и с иностранцами якшаешься, рассердилась я на тебя. Гляди, сама отправлюсь в столицу и подам жалобу на высочайшее имя. Сообщу, что ты трескал собачье мясо на халяву, завладел чужой женой… Эх, Цянь Дин, я готова рискнуть и разбить голову о золотой колокол, чтобы с тебя содрали форму и открыли подноготную не знающего жалости подлеца. Мне ничего не оставалось, как с корзинкой в руках удалиться от ворот. За моей спиной мелкие ублюдки, поставленные часовыми, презрительно захихикали. Ишь храбрецы! Пес неблагодарный, забыл, как вместе со своим папашей, который никак не умрет, в ноги мне кланялся? Если бы не я, смог бы ты, голодранец, торговец плетеными туфлями, занять место у уездной управы с дробовиком в руках и получать часть сезонного урожая? А ты, маленький попрошайка, ведь сидел на корточках у котла на улице в любые морозы! Не замолви я за тебя словечко, разве стал бы ты лучником? Это я за тебя хлопотала, позволяла полицейскому начальнику Ли Цзиньбао меня прицеловывать да по заду гладить, да и начальнику тюрьмы Су Ланьтуну меня по заду гладить да прицеловывать. А вы вон какие – смеете, глядя на меня, шуточки отпускать, презрительно посмеиваться в мою сторону, а на людей, кто побогаче, глазами собаки смотрите. Да Вас, выблядки собачьи, даже если бы и сплоховала, к мясу бы и не подпустила. Меня мертвецки пьяную не купишь за кувшин вина. Погодите, отдышусь вот, вернусь и разберусь с каждым. Я оставила за спиной управу – чтоб ей пусто было – и побрела по выложенной плитами дороге домой. Батюшка, старый повеса, после сорока-пятидесяти ты неважно руководил труппой маоцян, шатался по улицам, пел про императоров, генералов и сановников, изображал талантливых ученых и красоток, разыгрывал любовные трагедии, зарабатывал, сколько придется, ел дохлых кошек и собак, пил водку и вино, ел и пил вдоволь, якшался со всяким сбродом, взбирался на холодные стены, чтобы спать на теплом кане, довольствовался большим счастьем и малым, вел беспечную жизнь небожителя, стремился пускать пыль в глаза, болтал чепуху, говорил то, что не осмелится сказать бандит с большой дороги, обделывал дела, на какие и разбойник не решится, в конечном счете оскорбил служителя в управе, вызвал гнев начальника уезда, батогами тебе всю задницу расквасили, но ты головы не склонил, чтобы признать себя побежденным, дрался со всеми. Бороденка у тебя повыдранная, как у ощипанного петуха, она что обрезанный конский хвост. С театральной труппой ничего не вышло, вот ты открыл чайную, дело хорошее, жил себе тихо-мирно. Кто ж знал, что ты, как говорится, пожалеешь розог и испортишь ребенка, позволишь жене болтаться, накликаешь беду. Вот ее и полапали, ну, полапали и полапали. Ты же не стал молча сносить обиды и оскорбления, как добропорядочный человек, для которого пострадать – счастье, вытерпишь – пребудешь в мире. Поддавшись настроению, отлупил палкой немецкого инженера, чем и вызвал ужасные бедствия. Немцев даже император боялся, а ты – нет. Вот и накликал беду: деревня кровью умылась, двадцать семь душ погибло, в том числе младший брат и сестра, а также дочка. Но ты так разошелся, что на этом не остановился, сбежал на юго-запад провинции Шаньдун, завел дружбу с ихэтуанями[12], по возвращении возвел алтарь, вывесил флаги и палил из пушек, встал во главе бунтовщиков, собрал войско с самодельными ружьями и пушками на плечах, с широкими мечами и длинными пиками. Они разрушали железную дорогу, сжигали будки, убивали иностранцев, строили из себя героев, в конце концов так набедокурили, что уничтожили небольшой городок, причинили страдания народу, а ты сам оказался в тюрьме, живого места не осталось… Глупый батюшка мой, сердце твое заплыло свиным жиром. В какую пагубу ты угодил? Лиса-оборотень в тебя вселилась? Хорек одурманил? Пусть даже немцы своей железной дорогой испортили фэншуй нашему северо-восточному краю – уезду Гаоми, преградили водные пути нашего края, но ведь испорчен фэншуй не нашего дома, преградили водные пути не к нашему очагу. Зачем тебе нужно было лезть в вожаки? Вот и получилось, что попали в птицу высокого полета. Не зря говорят, что прежде чем переловить воров – поймай их предводителя. Или, если готовишь соевые бобы для всех, а котел у тебя взрывается, то беда только твоя. У тебя, отец, на этот раз большие проблемы: перепугался императорский двор, разгневались великие державы. Слышала я, что шаньдунский генерал-губернатор Юань Шикай, его превосходительство Юань, вчера вечером в паланкине с восемью носильщиками прибыл в уездную управу. Клодт, генерал-губернатор Цзяоао[13], в полной форме с «маузером» на боку тоже ворвался в управу верхом на заморском скакуне. Стоявший на посту лучник Сунь Хуцзы шагнул вперед, чтобы преградить ему путь, но получил удар плетью от этого заморского дьявола и поспешил скрыться, но на его жирном ухе так и осталась красоваться рана шириной с палец. Нет, отец, на сей раз тебе не сбежать, твою круглую голову непременно выставят напоказ на открылке в форме иероглифа «восемь». Если даже Цянь Дин, его превосходительство Цянь, глядя мне в лицо, захочет отпустить тебя, то Юань Шикай, его превосходительство Юань, тебя не отпустит; если даже Юань Шикай, его превосходительство Юань, соизволит отпустить тебя, то генерал-губернатор Клодт не отпустит. Покоритесь воле Неба, батюшка! Мысли мои мешались, пока я торопливо шла по мощеной дороге на восток, навстречу багровому солнечному диску. Из корзинки разносился аромат собачьей ноги. На зеленоватой плитке то тут, то там встречались лужицы крови. В моем смятенном состоянии я увидела катящуюся по улице голову отца. Ты катился, отец, и пел арию из оперы. Про «кошачью оперу» маоцян говорят, что она напоминает вопли привязанной к колу женщины. Музыка изначально не особо выдающаяся, таковой ее сделал своим пением мой отец. Не знаю, сколько женщин Гаоми потеряли голову от его голоса, сладкого, как сочный арбуз. Своим голосом селезня он очаровал и мою покойную матушку, которая вышла за него замуж. А матушка была знатной красавицей у нас в Гаоми, даже на сватовство цзюйжэня[14] по фамилии Ду не ответила, а решительно последовала за отцом, этим актеришкой без гроша за душой… Навстречу попался батрак семьи Ду, глухой Чжоу. Он шел с водой, изогнув спину, как сушеная креветка, и вытянув красную шею, с копной ослепительно-белых волос на голове и лицом, покрытым сверкающими капельками пота. Натужно пыхтя, он торопливо отмерял широкие шаги. Вода из ведер переливалась через край, оставляя у него за спиной связки жемчужинок. Я вдруг увидела, отец, что в одном из его ведер плавает твоя голова. Вода в ведре обрела багровый цвет. До меня донесся запах горячей крови. Такой же разносится, когда мой муж Чжао Сяоцзя вспарывает животы свиньям. Жуткое зловоние. Глухой Чжоу и думать не думал, что через семь дней, когда он пойдет на место казни приговоренного к смерти отца послушать маоцян, пуля из «маузера» немецкого дьявола пробьет ему живот, и оттуда, как угорь, выскользнет цветастая кишка. Проходя мимо меня, он с трудом поднял голову и оскалился в презрительной улыбке. Даже такой чурбан, как этот глухой, смеет презрительно смеяться в мою сторону. Батюшка, видать, на этот раз ты обречен, не говоря уже о Цянь Дине. Прибыл представитель императорского дома, так что твоей казни не избежать. Упадочное настроение вернулось, но сдаваться я не желаю. Батюшка, мы с тобой, не имея цели, будем действовать напропалую, как говорится, будем выдавать дохлую лошадь за живую. Полагаю, в данный момент начальник Цянь в компании прибывшего из провинции Цзинань Юань Шикая и примчавшегося из Циндао Клодта возлежит в гостевом доме при управе и покуривает опиум. Дождусь, пока Юань и Клодт укатят, еще раз нагряну в управу с собачатиной. Пусть только я увижу его, а там придумаю, как заставить его смиренно выслушать меня. Тогда уже не будет начальника Цяня, будет лишь старший внучок Цянь, который будет вертеться, как мне захочется. Больше всего я боюсь, батюшка, что тебя затолкают в арестантскую повозку и отправят под конвоем в столицу, и случится, как говорят, то, когда «умер единственный сын у старухи, а дядюшки нет»[15]. А если казнь будут проводить в уезде, то у нас будет на них управа. Сделаем козлом отпущения какого-нибудь нищего. Как говорится, украдем балки и заменим на бревна. Пусть слива засыхает вместо персикового дерева. Хотя вспомнишь, батюшка, как ты бессердечно к матушке относился, так мне не следовало бы спасать тебя ни в первый раз, ни во второй, ни в третий, а давно позволить тебе упокоиться, чтоб поменьше ты причинял женщинам горя. Но ты, в конце концов, отец мне. Нет неба, нет и земли, без курицы не будет и яйца, нет любви, нет и пьесы. Не будь тебя, не было бы и меня. Прохудившуюся одежду можно поменять, лишь отца не поменяешь. Вот впереди Храм Матушки-Чадоподательницы, поспешу-ка я обнять ноги Будды. Коли нездоров, обращаешься к врачу. Войду и попрошу Матушку-Чадоподательницу явить чудодейственную силу, спасти и сохранить тебя, обратить несчастье в удачу, вырвать тебя из когтей смерти. В Храме Матушки-Чадоподательницы темно и гулко, в глазах помутилось, кромешная тьма. Лишь бьется о балку большая летучая мышь, а может, и не летучая мышь вовсе, а ласточка. Точно: ласточка. Глаза понемногу привыкли к темноте храма, и я увидела перед статуей Матушки-Чадоподательницы десяток развалившихся на полу нищих. От вони мочи, испускаемых газов и еще какой-то дряни меня чуть не вытошнило. Матушка-богиня, в чем-то ты, видать, провинилась, раз тебе приходится оставаться под одной крышей с этой стаей диких котов. Они потягивались, подобно змеям, выходящим из состояния оцепенения ранней весной, поочередно разминали закоченелые конечности, потом лениво один за другим встали на ноги. Их вожак Чжу Восьмой – с проседью в бороде, с воспаленными кругами под глазами – состроил мне гримасу, сплюнул в мою сторону и заорал: – Вот беда, неразбериха, глаз открыл, а тут крольчиха! По его примеру и остальная шайка стала плевать в мою сторону и галдеть, как попугаи: – Вот беда, неразбериха, глаз открыл, а тут крольчиха! Мне на плечо молниеносно вспрыгнула мохнатая краснозадая обезьяна, напугала меня так, что чуть душа в пятки не ушла. Не дожидаясь, пока я приду в себя, эта тварь запустила лапу в корзинку и выудила из нее собачью ногу. Через мгновение она снова сидела на свечном столике, еще миг – и она перемахнула на плечо Матушки-Чадоподательницы. Пока она прыгала туда-сюда, железная цепь у нее на шее звенела, хвост, как метла, поднимал слои серой пыли, от которой в носу засвербело. «Апчхи!» Чтоб тебя, обезьяна вонючая, скотина человекоподобная! А та уселась на корточки на плече Матушки и, оскалившись, впилась в собачью ногу. Беспорядочно елозя лапами, обезьяна измазала маслом весь лик Матушки. Матушка не сетовала и не сердилась, выносила все безропотно, сама великая доброта и великая скорбь. Но если Матушка даже обезьяну приструнить не может, как же она спасет жизнь моего отца? Ах, батюшка, батюшка, отчаянный вы человек, вы как хорек, который пытается овладеть верблюдицей: всегда выбираете, где потруднее. Обрушившаяся беда потрясла небо и всколыхнула землю. Даже Цыси, вдовствующая императрица нынешней династии, знает ваше великое имя. Даже великий немецкий император Вильгельм осведомлен о деяниях ваших. Вы – человечишка из простого народа, бродячий актеришка, который еще и заикается, – расшалились до такой степени, что и после падения считаете, что не зря пожили в этом мире. Как поется в той песне, «лучше прожить три дня кипучей жизни, чем тысячу лет дрожать от сдерживаемого гнева». Ты полжизни пел арии, батюшка, изображал на сцене жизнь других, а теперь наверняка хочешь рассказать о себе, играть и играть, пока в конце концов вся твоя жизнь не станет спектаклем. Нищие окружили меня, кто-то тянул ко мне изъеденные язвами, сочащиеся гноем руки, кто-то оголял покрытый чирьями живот. Они верещали на все лады, кто громко, кто не очень, издавая странные звуки, одни что-то распевали, другие голосили, как родня по усопшему, выли по-волчьи, кричали по-ослиному, ничего не разберешь, все в полном беспорядке, как куча куриных перьев. – Сделай милость, сделай милость, сестра Чжао, Си Ши[16] собачатинная ты наша. Пожалуй пару медяков, вернется два юаня… А не дашь, так и не надо, воздаяние будет сразу… Под свои пронзительные вопли эти сучьи отродья стали кто щипать меня за ляжки, кто хватать за зад, а кто еще где лапал… Все норовили поймать рыбку в мутной воде, как говорится, по плети до тыквы добраться, поживиться по полной. Я хотела прорваться к выходу и убежать, но меня останавливали, хватая за руки и за талию. Я рванулась к Чжу Восьмому. Ну, погоди, Чжу Восьмой, я тебе сегодня задам. Чжу Восьмой поднял лежавший рядом бамбуковый шест и легонько ткнул меня в колено, под коленками все застыло, и я рухнула на пол. Чжу Восьмой презрительно усмехнулся: – Жирная свинья налетела на ворота, кто же от дармовщинки откажется! Начальник Цянь, ребятушки, ест мясо, а вы бульону испейте! Нищие накинулись на меня, повалили на землю и разом стащили штаны. В этот переломный момент я сказала: – Чжу Восьмой, сукин ты сын, не по-мужски греть руки на чужой беде. Знаешь ли ты, что моего родного отца Цянь Дин в тюрьму упрятал, и его собираются обезглавить? – А кто твой отец? – недовольно прикрыв воспаленные глаза, спросил Чжу Восьмой. – Ты, Чжу Восьмой, с открытыми глазами посапываешь, делаешь вид, что храпишь! [17] Все в Китае знают, кто мой отец, как ты можешь не знать? Мой отец – Сунь Бин из нашего северо-восточного края, мой отец – исполнитель маоцян Сунь Бин, мой отец – Сунь Бин, который разбирал железную дорогу, мой отец – Сунь Бин, предводитель народа, сражавшегося с немецкими дьяволами! – Чжу Восьмой встал, сжал кулаки, приставил их к груди в малом поклоне и без передышки проговорил: – Виноват, прости, хозяюшка, нельзя винить темного человека! Мы тут знаем лишь, что Цянь Дин – твой названый отец, не ведали, что Сунь Бин – твой родной батюшка. Цянь Дин – ублюдок, а твой батюшка – герой! Твой батюшка силен духом, не побоялся выступить против заморских дьяволов по-настоящему, мы от всей души его почитаем. Если мы можем быть чем-то полезны, ты, хозяюшка, только скажи. А ну, ребятки, на колени, земным поклоном просите прощения у хозяюшки! Толпа нищих все как один опустились на колени и стали отбивать мне поклоны, настоящие, со стуком и лбами в пыли. Они хором возопили: – Всяческого благополучия хозяюшке! Всяческого благополучия хозяюшке! Даже сидевшая на плече Матушки мохнатая обезьяна отбросила собачью ногу, оставляя грязные следы, спрыгнула вниз и, вытянув лапы перед собой, стала в подражание людям кланяться, да так чудно, что всех рассмешила. Чжу Восьмой распорядился: – Братки, чтобы завтра поднесли хозяюшке пару жирных собачьих ножек. – Не нужно, не нужно, – поспешила отказаться я. Но Чжу Восьмой сказал: – Давайте без церемоний, нашим ребяткам, что пойдут добывать собачьи ноги, это легче, чем прихлопнуть вошь на ширинке. Нищие захихикали, у некоторых был полный рот желтых зубов, у других зияли дыры. Мне вдруг показалось, что эти нищие такие милые. У них такая интересная жизнь. Солнечные лучи, которые наконец полились от входа, теплым багряным светом осветили их улыбающиеся лица. В носу засвербело, из глаз потекли горячие слезы. Чжу Восьмой сказал: – Хозяюшка, хотите устроим налет на тюрьму? – Нет, нет, – сказала я. – Ни в коем случае. Дело моего отца из ряда вон выходящее, у входа в тюрьму стоят стражники уездной управы, Клодт прислал еще отряд немецких дьяволов. Чжу Восьмой распорядился: – Семерочка Хоу, выйди-ка погуляй, будут новости, тут же сообщи. – Повинуюсь! – ответил Семерочка Хоу. – Он поднял лежавший перед Матушкой гонг, взвалил на спину суму, свистнул: – Сыночек, пойдем с папой! – Мохнатая обезьяна сразу запрыгнула ему на плечо. Хоу ударил в гонг, затянул песню, и они ушли. Я подняла голову. От всего тела глиняной Матушки по-прежнему исходил свет, на мокром лице, похожем на серебряное блюдо, выступили капельки пота – Матушка явила себя, Матушка явилась! Матушка, оборони моего батюшку!3
Я вернулась домой, окрыленная надеждой. Сяоцзя уже встал и точил во дворе нож. Он улыбнулся мне теплой и дружеской улыбкой. Я тоже улыбнулась ему тепло и по-дружески. Он попробовал нож пальцем, но остался недоволен остротой, опустил голову и продолжил работу. Из-под сермяжной рубахи долькой чеснока выпирало дюжее тело с черной порослью на груди. Я вошла в дом. Свекор сидел в полудреме с закрытыми глазами на сандаловом кресле с подлокотниками, украшенными резными драконами на спинке и инкрустированными золотой нитью. Кресло он привез из столицы. Свекор перебирал четки из сандалового дерева и что-то бормотал, не знаю, то ли славословия, то ли ругательства. В зале было сумрачно, только редкие лучи солнца проникали через оконный переплет, поблескивая золотом и серебром на его худом лице с глубокими глазницами, высокой переносицей и плотно сжатым ртом, похожим на шрам от меча. На короткой верхней губе и удлиненном подбородке ни волосинки, что тут удивляться слухам о том, что он вернулся из императорского дворца старшим евнухом. Волосы на голове уже поредели, требуется немало черных нитей, чтобы с трудом заплести косичку. Он чуть приоткрыл глаза, и меня коснулась полоска ледяного света. «Вы уже поднялись, батюшка?» – спросила я. Он кивнул и продолжал бормотать, перебирая четки. По заведенному несколько месяцев назад порядку я взяла роговой гребень, причесала свекру волосы и заплела косичку. Вообще-то это должна была делать служанка, но у нас в доме служанки не было. Невестки тоже свекра не причесывают. Если увидит кто, разве не заподозрят в снохачестве? Я же была уверена в руках этого старого хрыча: ну позволяет себя причесывать, и ладно. На самом деле я сама приучила его к этому недостатку. Тем ранним утром, когда он только что вернулся и сам с ломаным гребнем в руках без всякого удовольствия причесывал себя, Сяоцзя, «почтительный сын», подошел и взялся за это дело сам, приговаривая: – Отец, у меня волос на голове мало. Маленьким я слышал, как мама говорила, что это от стригущего лишая, на твоей тоже волос немного, – тоже, что ли, такая история? Сяоцзя особым тактом не отличался, и старый хрыч, изобразив гримасу, сказал, что его наказание в том, что почтительный сын причесывает ему голову, это, мол, одно блаженство, потому что именно так, по всей видимости, Сяоцзя выщипывает щетину у мертвой свиньи. В тот день я только вернулась от начальника Цяня, и настроение было прекрасное. Чтобы порадовать отца и сына, я тут же предложила: – Батюшка, давайте я причешу вас. Послушно расчесала его волосенки, привязала черные нитки и заплела большую косу. Потом поднесла к его лицу зеркало. Он разгладил наполовину настоящую, наполовину поддельную косу, и в мрачных глазницах блеснули слезы. Такое случалось крайне редко. Сяоцзя дотронулся до его глаз и спросил: – Отец, вы плачете? Свекор покачал головой: – У ныне правящей императрицы есть специальный евнух для расчесывания, но она его услугами не пользуется, ее всегда расчесывает Ли Ляньин, начальник дворцовой стражи Ли. Я не поняла, к чему он нам это сказал, а Сяоцзя, очарованный рассказами отца о пекинской жизни, пристал к нему с просьбой рассказать еще. Не обращая на него внимания, свекор достал из-за пазухи банкноту и передал мне: – Невестка, купи пару чжанов[18] заморской ткани, сшей себе что-нибудь, премного благодарен за то, что ухаживаешь за мной в эти дни! На другой день я еще крепко спала на кане, когда меня разбудил Сяоцзя. – Чего тебе? – рассердилась я. Сяоцзя уверенно и смело заявил: – Вставай, вставай, отец ждет, чтобы ты причесала его! На миг я замерла, чувствуя в душе невыразимое упрямство. Вот уж поистине: открываются врата добродетели – хорошо, а вот закрыть их трудно. Кем он меня считает? Старый хрыч, ты не императрица Цыси, а я не начальник дворцовой стражи. Причесала один раз твою высохшую, наполовину седую, вонючую собачью шерсть, а ты посчитал, что тебе выпала счастливая судьба возжигавшего лучшие ароматы восьми поколениям предков. Да ты просто кот, нажравшийся вонючей рыбы, или изведавший вкус хорошей жизни холостяк, которому хочется еще и еще. Считаешь, что дал мне бумажку в пять лянов[19], и можно как угодно помыкать мною? Тьфу! Ты подумал, кто ты такой, и кто такая я? Еле сдерживая охвативший меня гнев, я спустилась с кана, собираясь высказать свекру всю злость, чтобы он оставил свои коварные замыслы. Но не дав мне даже раскрыть рот, старый хрыч поднял глаза на потолок и, словно разговаривая сам с собой, произнес: «Не знаешь, кто причесывает уездного начальника Гаоми?» Я похолодела. Казалось, старик передо мной не человек, а призрак под человеческой личиной, иначе как бы он узнал, что я причесывала начальника Цяня. Озвучив свой вопрос, он выпрямил голову и сел в кресле прямо. Меня пронзили два мрачных луча света из его глаз. Раздражение тут же отпустило, я покорно подошла сзади и принялась расчесывать его псиную шерсть. При этом невольно вспомнились прекрасные, блестящие и гладкие, приятно пахнущие, лаково-черные волосы названого отца. Держа в руках жидкую косичку, смахивавшую на хвост плешивого осла, я невольно вспоминала увесистую и толстую, вроде саму по себе двигающуюся большую косу названого отца. Этой косой он проводил мне по телу от макушки до пяток, как сотней коготков. Касание приводило в смятение, будто изливалась каждая пора тела… Что делать, расчесывай, сама приготовила горькое вино, сама его и пей. Я только начинала расчесывать названого отца, а он протягивал руку и гладил меня, и, бывало, расчесывание еще не заканчивалось, а мы двое уже приникали друг к другу. Не верю, чтобы старый хрыч оставался спокойным. Ждала, когда он начнет карабкаться вверх по шесту. Только посмей, хрыч старый, сразу сделаю так, что заберешься и не спустишься. Когда дойдет до этого, будешь покорно слушаться меня. Когда дойдет до этого, я тебе голову расчесывать не буду, буду чесать твою штуковину. Ходят упорные слухи, что у старика за пазухой спрятано сто тысяч лянов. Рано или поздно ты их вытащишь для меня. Я надеюсь, что он начнет карабкаться вверх, но старый хрыч оказался довольно устойчив. Пока не карабкается. Не верю, что в Поднебесной есть коты, которые не едят тухлятину. Хрыч старый, посмотрю, как долго ты сможешь сдерживаться! Распускаю косичку, прохожусь гребнем по мягким спутанным прядям. Сегодня утром мои движения особенно нежны. Сдерживая тошноту, я поглаживаю мизинцами основания его ушей, трусь грудью о шею со словами: «Батюшка, моего родного отца арестовали и посадили в тюрьму. Вы, почтенный, бывали в столице, авторитет у вас огромный, не могли бы выступить в его защиту?» От старого хрыча ни звука, никакой реакции. Я знаю, со слухом у него все в порядке, лишь прикидывается глухим. Берусь за его плечи, повторяю сказанное еще раз. По-прежнему ни звука. Неожиданно солнечный свет скользнул, осветив латунные пуговицы на коричневой шелковой куртке свекра, потом его маленькие ручки, неторопливо перебирающие четки из сандалового дерева. Эти белые нежные ручки никак не соответствовали ни его полу, ни возрасту. Приложите меч к моей шее, я не поверю, не смею верить, что это руки, которые всю жизнь рубили головы мечом. Раньше я не могла в это поверить, а сейчас наполовину верю, наполовину нет. Я еще крепче прижалась к его телу и кокетливо проговорила: «Батюшка, мой отец совершил преступление, но вы бывали в столице, повидали мир великих, помогите принять решение!» Я вцепилась в его костлявые плечи, опустила ему на шею свои увесистые титьки. Из моего рта один за другим лились чарующие звуки. Когда я так ластилась к Цянь Дину, начальнику Цяню, у того сразу размягчались кости, немели мускулы, и он делал все, что я захочу. Но эта старая образина – просто каменное яйцо какое-то, которое не берет ни масло, ни соль. Даром, что мои груди, которые мягче дыньки, прыгают во все стороны, а волны моего распутства вздымаются выше Храма Золотой горы[20]. Старик остается недвижным и бессловесным. И вдруг я замечаю, что маленькие ручки перестали перебирать четки, что эти пухлые ручонки слегка задрожали. Я безумно обрадовалась: не выдержал, в конце концов, старый хрыч? Жаба под ножкой кровати продержится недолго. Когда ты заставил меня причесывать твою собачью голову, я не думала, что удастся вытащить у тебя из-за пазухи пачку денег, что ты еще посмеешь шантажировать меня связью с господином. «Батюшка, помоги придумать, как быть!» И продолжала кокетничать у него за спиной. Вдруг послышался холодный смешок, похожий на крик дикой кошки из черной сосновой рощицы посреди заброшенного поля в безлунную ночь, и сердце затрепетало от ужаса. Тело объяло морозом, все мысли и надежды исчезли незнамо куда. Человек ли этот старый хрыч? Может ли человек издавать подобный смех? Нет, он не человек, он демон, точно. Он и не мой свекор, я живу с Чжао Сяоцзя десять с лишним лет, и он никогда не говорил, что у него есть какой-то обретающийся в столице отец. Не только он не говорил, не поминали об этом во всем разбирающиеся, много видевшие и много знавшие соседи. Он мог быть кем угодно, только не моим свекром. Да и лицом нисколько не походит на моего мужа. Ты, наверное, дрянь старая, дикий зверь в человечьем обличье? Другие боятся вас, всей этой нечисти, а я не боюсь. Погоди вот, в загоне есть черный как смоль пес. Скажу Сяоцзя, чтобы убил его, наберу таз крови этого пса, неожиданно вылью тебе кровь на голову, и выявится твой бесовский облик.4
На Праздник Чистого света[21] моросил мелкий дождь, между небом и землей клочками ваты неторопливо плыли серые облака. Рано утром вслед за нарядно одетыми мужчинами и женщинами я вышла из Южных ворот города. В тот день у меня был с собой бумажный зонтик, на котором был изображен Сюй Сянь, встречающий на озере Белую Змейку[22], а гладко причесанные волосы заколоты зажимом в виде бабочки. На лице тонкий слой пудры, румяна на щеках, на переносице – мушка размером с горошину, на губах – красно-вишневая помада. Одета я была в розовую батистовую кофту и бирюзовые батистовые штаны. Иностранцы – люди скверные, но ткани у них отличные. На ногах у меня были туфли из зеленого шелка с вышитыми желтыми уточками-мандаринками и розовыми цветками лотоса. Не будут смеяться, что ноги большие? А вы посмотрите: большие ли у меня ноги? Я незаметно глянула в ртутное зеркало. Оттуда смотрела прелестная красотка с искрящимися глазами. Сама себе нравлюсь, почему же не понравлюсь всем этим мужчинам? Хотя из-за положения отца на душе кошки скребут, но, как говорит названый отец, чем горше на душе, тем больше радости должно быть на лице, нельзя, чтобы люди видели, что у тебя что-то не так. Ладно, ладно, ладно, смотрите, смотрите, смотрите, сегодня мне нужно помериться красотой с женщинами города Гаоми, доказать, что любые барышни из семей цзюйжэней, любые дочери академиков «Ханьлинь»[23] не стоят даже пальца моей ноги. Мой единственный недостаток – большие ноги, и все из-за того, что моя матушка умерла рано, и некому было бинтовать их, вот и болит душа, когда речь заходит о ногах. Мой названый отец говорит, что ему нравятся женщины с нормальными ногами, к нормальным ногам и интерес естественный. Забравшись на меня, он любит, когда я колочу его пятками по заду. Колочу, а он громко кричит: – Ножки большие – слитки золотые, маленькие ножки – копытца да рожки… Хотя мой родной отец в то время заклинал духов и поставил у нас на северо-востоке алтарь, готовясь встретить вооруженных немцев, и хотя мой названый отец из-за дел моего родного отца пребывал в беспокойстве и смятении, безрадостный из-за двадцати семи убиенных душ, в Гаоми все было тихо и мирно. Казалось, произошедший на северо-востоке Поднебесной кровавый инцидент не имеет к обитателям уездного города никакого отношения. Мой названый отец начальник Цянь приказал возвести на военном плацу за Южными воротами высокие качели из пяти толстых и прямых еловых бревен. Вокруг качелей собрались парни и девушки со всего города. Девушки разряжены в пух и прах, у парней косы расчесанные, гладкие и блестящие. Раздаются радостные возгласы и смех. Ко всему этому примешиваются лоточники, возглашающие:Засахаренные фрукты, тыквы-горлянки! Семечки, арахис!
Сложив зонтик из промасленной бумаги, я пробралась в гущу толпы, огляделась по сторонам и заметила барышню из семьи Ци, которая, по слухам, обладала литературным талантом и писала стихи. Ее сопровождали две служанки. Пышно разодетая – цветы и парча, голова в жемчугах и самоцветах – она, к сожалению, родилась с вытянутой лошадиной физиономией, этакий безбрежно-белый солончак, где растут две тощие травинки вместо обычных бровей. Я обратила внимание также на шествующую под охраной четырех служанок дочь семьи Цзи из Ханьлинь. Эта дева, как говорили, была мастерицей-рукодельницей, умела играть на цитре, флейте и других музыкальных инструментах. Но – какая жалость! – со своим крошечным носиком, маленькими глазками и ушками она походила на хитрую пучеглазую мелкую сучку. Наконец, вышедшие погулять шлюхи с Карминной улочки шли, хихикая и вихляя бедрами. Вылитая стая обезьян. Посмотрела я на всех спереди и сзади, слева и справа, выпятив грудь и задрав голову. Незрелые юноши впивались в меня глазами, разглядывая с головы до ног и с ног до головы. Разинутые темные ямы ртов, по подбородкам течет слюна. Посмеиваюсь, а в душе я была довольна! Сынки, внучата, раскройте глаза, возвращайтесь домой и смотрите свои прекрасные сны! Я сегодня и так проявила милосердие, дав вам полюбоваться на меня вдоволь. Эти детки долго стояли, как истуканы, но потом пришли в себя, взревели, будто гром грянул на ровном месте, а потом вразнобой по-дурацки загалдели:
Собачатинная Си Ши, первая в Гаоми! Гляньте, личико что персик, талия – лоза, шея богомола, ноги журавля! Выше пояса – захочешь помереть, ниже – страх такой, что лучше не смотреть. Только вот у господина Цяня странный вкус, любит небожительниц с большими ногами. Вздор не несите, у дороги попусту не болтайте, уши есть и у травы. Донесут на вас, отволокут в управу, всыплют по сорок палок, И станет задница, как переваренная кочерыжка.
Что бы вы, мартышки мелкие, ни говорили, я сегодня сердиться не собираюсь. Что вы себе позволяете, если моему названому отцу что-то нравится?! Я пришла на качелях покачаться, а не слушать ваш вздор. На словах вы меня поносите, а в душе только и мечтаете попить моей мочи. Качели оказались свободны: толстые сырые веревки покачивались под моросящим дождем в ожидании меня. Я отбросила зонтик – не знаю, может, его подобрали эти мартышки. Потом прыгнула вперед, как выскакивает из воды красный карп. Двумя руками взялась за веревки, тело тоже взлетело вверх, ногами уперлась в подножку. Вот, посмотрите, детки, в чем преимущество больших ног! И громко закричала: «Раскройте глаза, сынки, сейчас я вам покажу, как нужно качаться». Как раз в это время у качелей появилась толстая и глупая девица, не знаю, из чьей семьи, с чумазым лицом, огромной, как жернов, задницей, и ногами меньше водяного ореха. Хватает же наглости с таким-то телом лезть на качели? Вот уж поистине ящерица в нос залезла! Ни стыда ни совести. Ведь что такое качели? Качели – театр в воздухе, забираться на них значит устраивать представление, выставлять напоказ фигуру и лицо, это лодочка в бурных волнах, это ветер, поток, это бешеное раскачивание, это возможность для женщин вволю пококетничать. Почему мой названый отец приказал возвести здесь на плацу качели? Думаете, он действительно так народ любит? Тьфу! Много о себе воображаете! На самом деле эти качели он построил специально для меня, это его подарок мне на праздник. Не верите? Сами у него спросите. Вчера вечером принесла ему собачатины. После очередных «тучек с дождем»[24] он обнял меня за талию со словами: «Сердце мое, сокровище, завтра Праздник Чистого света, названый батюшка построит для тебя на плацу качели! Батюшка знает, что ты играла на сцене в амплуа женщины-воина. Вот и покажешь им свои ножки, пусть не на всю провинцию Шаньдун, так на весь уезд Гаоми ты у меня прогремишь. Пусть эти простолюдины знают, какова названая дочка у некоего Цяня, выдающаяся женщина, просто Хуа Мулань! [25] Пусть поймут, что большие ноги гораздо красивее, чем маленькие. Некий Цянь хочет изменить старые нравы и обычаи, хочет, чтобы женщины Гаоми больше не бинтовали ноги». – Названый батюшка, – сказала я, – из-за дела моего отца у вас на душе нерадостно. Чтобы защитить его, вы взяли на себя огромный риск, а раз вы нерадостны, то и я не в настроении. Целуя мне ноги, названый батюшка проговорил: «Красавица Мэйнян, сердце мое, я и хочу по случаю празднования изгнать мрачный настрой во всем уезде. Мертвых не воскресить, а живым еще больше нужен дух веселья! Ты плачешь, никто тебе искренне не сочувствует, большинство смеется, глядя на тебя. Если ты станешь тверже, выпрямишься, станешь пожестче, чем они, прямее, чем они, то они подчинятся тебе. Те, кто пишет строки и играет на сцене, могут написать о тебе книгу или создать о тебе спектакль. На качелях проявятся твои способности! Пройдет какое-то время, и в вашей опере маоцян наверняка появится молодая девушка Сунь Мэйнян, которая устраивает веселье на качелях!» Ничего другого предложить не могу, только играть ногами с бородой названого батюшки, ну а если говорить о качелях, дочка вас не посрамит. Обеими руками я вцепилась в веревки, присела, согнула ноги, носками уперлась в подставку качелей, задрала зад, тело подала вперед, выставила грудь, подняла голову, выпятила живот, и качели начали разбег. Потянула веревки назад, вновь присела, согнула ноги, уперлась в подставку, снова выставила грудь, подняла голову, напрягла ноги. Заскрипели большие железные кольца на перекладине качелей. Качели стали раскачиваться. Раскачивались все выше, все быстрее, все круче, все с большей силой, размах все больше… От туго натянутых веревок разносился ветерок, железные кольца на перекладине пугающе скрипели. Я была на седьмом небе от счастья, руки превратились в крылья, грудь покрылась перьями. Когда качели долетали до самой высокой точки, мое тело воспаряло вслед за ними, высокая приливная волна вздымалась и в душе. Она то набегала, то спадала. Волна следовала за волной, каждая несла клочья пены. Большие рыбы гнались за маленькими, маленькие преследовали креветок. И раздавался шум моря… Ах, как высоко, действительно высоко, еще выше, еще… Тело вздымалось вверх, лицо касалось порхающих вокруг любопытных ласточек, их светло-желтых брюшков. Взлетев выше всего, я самодовольно возлежала на бесподобно мягком тюфяке, сотканном из ветра и дождя, сунулась головой в листву самого большого старого абрикосового дерева и под одобрительные возгласы из толпы куснула цветущую ветку… Какой вольный полет, как приятно! Я постигла дао, стала небожительницей… Потом позволила плотине прорваться, нахлынувшей воде отступить, волна за волной, клочок пены один за другим… Большая рыба тянет маленькую, маленькая волочит креветку… Вот все с шелестом и схлынуло. Я опускалась к нижней точке, потом вдруг резко взмывала вверх, напряженно поднимая и опуская голову. Веревки беспрестанно дрожали, тело оказывалось почти параллельно земле, глазам открывался свежий желтозем и багровые росточки молодой травы. Во рту благоухали цветки абрикоса, в носу стоял густой абрикосовый аромат. Я забавлялась на качелях, и зрители на земле, все эти сынки, внучки и правнучки, отребье и бродяги раздухарились вслед за мной. Я взлетала вверх, они восторженно гудели; я возвращалась, они бойко галдели. Гул – взлет! Гам – возвращение! Вместе с мелким дождем под одежду забирался ветер, сладкий и соленый, похожий на мокрую бычью шкуру, он наполнял мне грудь, насыщал душу. Хотя с родным отцом случилось несчастье, выданная замуж дочь – что пролитая вода. Ты, батюшка, был сам по себе, вот и дочка зажила своей жизнью. Дома у меня искренний и честный муж, способный защитить от всяких напастей, на стороне есть любовник, влиятельный и могущественный, и в то же время ласковый и игривый. Хочешь вина – пей вино, хочешь мяса – ешь мясо; хочешь плачь, хочешь смейся, хочешь беспутствуй, хочешь скандаль. Никто мне не указ, вот это счастье и есть! Это и есть счастье, которое мне дала мать, всю жизнь постившаяся и молившаяся, и то, что выпало мне в жизни. Спасибо Владыке Небесному. Спасибо государю императору и вдовствующей императрице. Спасибо начальнику Цяню. Спасибо моему наивному и чудному Сяоцзя. Спасибо начальнику Цяню за то, что он специально для меня велел смастерить это волшебство… Наверное, эти качели – настоящее сокровище, которое трудно найти на небе и невозможно сыскать на земле, снадобье от тоски, специально созданное для меня. Еще нужно поблагодарить тщательно скрытую на женской половине жену начальника Цяня, она не может рожать, уговаривала мужа взять любовницу, но он решительно отказался.
5
Пословица гласит: полноводный поток течет, полная луна на убыль идет, людям нравится не делать добрых дел, собаки любят бросаться за дерьмом. Когда я снискала большую известность на качелях, мой родной отец Сунь Бин встал во главе жителей Северо-Восточного Китая, которые с лопатами, мотыгами, двузубыми крюками, коромыслами, деревянными вилами, кочергами окружили домики немцев на железной дороге. Они перебили предателей-китайцев, захватили в плен трех иностранных солдат. Содрали с них одежду, привязали к большой софоре и помочились им в лицо. На построенном участке дороги выкорчевали деревянные столбики с указателями и сожгли, разобрали рельсы и бросили в реку, выкопали шпалы, растащили по дворам и покрыли ими свиные хлева. Сожгли и будки на построенном участке. В самой высокой точке взлета качелей мой взгляд пересек стену, и я увидела весь город в домах, похожих на рыбью чешую. Мне открылась дорога перед управой, выложенная зеленоватой плиткой, многослойная черепичная крыша высоких палат, где обитал мой названый отец. Через парадную арку управы проследовал его паланкин с четырьмя носильщиками, впереди ударами гонга дорогу расчищал служитель в красной шапке и черной одежде, позади следовали две шеренги сопровождения, тоже в красных шапках и черных одеждах, с высоко поднятыми зонтами, веерами и табличками для приказов. За всей толпой и следовал собственно паланкин названого батюшки. Держась за шесты паланкина, за ним выступали двое охранников с мечами. Сзади следовали письмоводители шести отделов управы и выездные лакеи. Негромко прозвучали троекратные удары гонга, служащие управы издали устрашающий крик, носильщики перешли на быстрый семенящий шаг, почти не касаясь земли. Паланкин покачивался вверх и вниз словно лодочка на волнах. Я пересекла взглядом город и обратила взор на северо-восток, где со стороны Циндао тянулась немецкая железная дорога – длинная змея с размозженной головой, которая кривилась и изворачивалась. Тьма-тьмущая людей разлилась в полях бледно-зеленым цветом весеннего разлива и, размахивая разноцветными флагами, роем устремилась к железной дороге. Тогда я еще не знала, что во главе этой смуты был мой отец, знала лишь, что бездумно качаюсь на качелях. Я заметила, что на железной дороге, словно живые деревья, поднимаются столбы черного дыма, и вскоре оттуда стали доноситься приглушенные звуки. Кортеж моего названого отца приближался, он понемногу продвигался к Южным воротам города. Все громче звучали гонги, все четче слышались выкрики, флаги повисли под дождем, словно пропитанные кровью собачьи шкуры. На лицах носильщиков я заметила капли пота, до меня донеслось их тяжелое дыхание. Пешеходы по обеим сторонам улицы торжественно останавливались, склонив головы и не смея болтать и шевелиться. Не было слышно даже известных своей злобой собак семьи первого по списку цзюйжэня Лу. Видать, авторитет названого отца как чиновника весомее священной горы Тайшань, раз даже эти скоты не смеют раскрыть пасть. На сердце стало горячо, там небольшой очаг, а на нем – маленький чайник с вином. Дорогой названый батюшка, думаю о тебе всей душой! Окунуть бы тебя в это вино! И я с силой послала качели вверх. Пусть названый батюшка через занавески паланкина увидит мою прекрасную фигуру. С качелей далеко видать, народу тьма-тьмущая – зависшая над землей черной тучей кожа земли[26]. Не разберешь, кто там мужчины, женщины, старые, малые, не поймешь, кто есть кто, но от флагов рябит в глазах. Вы что-то кричите – на самом деле не разберешь, что именно, я лишь догадываюсь, что вы обязательно должны что-то кричать. Мой родной отец – родом из певцов, исполнитель маоцян во втором поколении. Эта опера, известная как «кошачьи мелодии» – изначально неприметное народное искусство, – усилиями отца развилась и приумножилась, стала известна от Лайчжоу на севере до Цзяочжоу на юге, от Цинчжоу на западе до Дэнчжоу на востоке – во всех четырех округах и восемнадцати уездах. Когда Сунь Бин горланил, женщины заливались слезами. Он вообще любил громко кричать. А если ведешь за собой войско, как тут без криков? Вид прекрасный, все видно как на ладони. Чтобы увидеть побольше, я изо всех сил раскачивала качели. А эти болваны внизу все думают, что я для них представление устраиваю. Аж самодовольно прыгают от радости. В тот день я оделась легко, да еще от тела исходит ароматный пот – названый батюшка говорит, что мой пот напоминает аромат розовых лепестков. Знаю, все сокровища моего тела проявляются со всей очевидностью: попка назад, титьки вперед – и толпа этих не годящихся ни на что слабаков поедает тебя взглядами. Холодный ветер забирается под одежду, завихряется под мышками. Звуки ветра, дождя, распускающихся цветов персика. Намокшие от дождя бутоны тяжелы. Крики служащих, скрип железных колец, выкрики лоточников, мычание телят – все слилось в одно. Это шумный праздник, цветущее третье число третьего месяца по лунному календарю. В юго-западном углу, где старые могилы, несколько седовласых старух жгут бумажные деньги. Над кладбищем ветерок поднимает клубы дыма, которые смешиваются друг с другом, как черные деревья с белыми. Из южных ворот наконец показывается кортеж названого батюшки, все зрители под качелями поворачивают головы. «Уездный начальник прибыл!» – раздались возгласы. Кортеж названого отца сделал круг по плацу, служаки по-собачьи воодушевились, выпятили грудь и подобрали животы, вытаращив выпученные глаза. Вас, названый отец, я видела сквозь бамбуковые занавески паланкина, видела шарик и павлиньи перья на шапке, ваше квадратное багровое лицо. Борода у вас на подбородке из прямых и жестких волос, похлеще проволоки, опусти в воду, и то не поплывут. Эта ваша борода нас и связывает, как сброшенные Лунным старцем красные нити[27]. Не будь такой у вас и у моего родного отца, где бы вы нашли такую сладкую названую дочь? Служащие управы вдоволь продемонстрировали свое величие – а на самом деле, названый батюшка, ваше величие. Паланкин остановился у края плаца. Площадка со всех сторон окружена персиковым садом, деревья одно за другим начинали цвести, и в туманной мороси все вокруг окружала розовая дымка. Шагнув вперед, один из чиновников с коротким мечом за поясом раздвинул занавески паланкина и позволил моему названому батюшке выйти. Поправив шапку с шариком и перьями, батюшка тряхнул рукавами в форме лошадиного копыта, сложил на груди сжатые кулаки в малом поклоне и зычным голосом обратился к нам: «Почтенные старики, горожане, с праздником!» Это у вас все деланое, названый отец. Вспомнилось, как вы забавлялись со мной в западном павильоне. Меня неудержимо стал разбирать смех. Вспомнилось, какие вам выпали невзгоды этой весной, и мне не удалось сдержать слез. Я остановила качели, держась за веревки и стоя на подножке. Сжав губы, с мокрыми глазами, с накатывающими в душе волнами горького, острого, кислого и сладкого, я стала смотреть, как названый отец разыгрывает комедию перед этими обезьянами. «В нашем уезде всегда поощрялась посадка деревьев, – говорил он. – Особенно приветствовалась посадка персиковых деревьев…» Радостно подхватив его слова, стоявший позади староста дворов за южной стеной громко воскликнул: – Уездный начальник подает личный пример. В этот погожий дождик на Праздник Чистого света он собственными руками посадит персиковое дерево на благо нас, простых людей… Названый батюшка покосился на перебившего его старосту и продолжил: – Горожане, поверните головы. За домами и пред ними, у края полей – везде персиковые деревья. Горожане, меньше занимайтесь пустяками, меньше ходите на базар, больше читайте книги, больше сажайте персиковые деревья. Не пройдет и десяти лет, как наш уезд Гаоми весь станет персиковым от посаженных деревьев, народ будет петь и плясать, празднуя прекрасную жизнь в великом благоденствии! Названый батюшка продекламировал строфы, взял поданную мотыгу и выкопал лунку для дерева. Лезвие мотыги наткнулось на камень и высекло несколько больших искр. В это время к нему подкатился Чуньшэн, особый выездной лакей при батюшке. Он суетливо отвесил поклон и запыхавшись доложил: – Плохо дело, господин, плохо дело… – Что такое? – строго вопросил названый батюшка. – Смутьяны северо-востока взбунтовались… – ответил Чуньшэн. Услышав эти слова, названый батюшка отшвырнул мотыгу, тряхнул рукавами и, пригнувшись, залез в паланкин. Носильщики подняли его и устремились бегом, за ними последовала толпа людей из управы, спотыкаясь, как стая бездомных псов. Я стояла на качелях, провожая глазами кортеж названого отца, а в душе чувствовала несказанное огорчение. Ты, родной батюшка, такой прекрасный праздник испортил. В удрученном настроении я спрыгнула с качелей, смешалась с шумной толпой, терпеливо снося попытки бродяг вызволить рыбку из мутного водоема, и не зная, то ли пройти в персиковый сад и полюбоваться цветами, то ли вернуться домой готовить собачатину. Как раз в тот момент, когда я не могла принять решение, ко мне стремительно подбежал болван Сяоцзя – лицо раскрасневшееся, глаза круглые – и стал лепетать толстыми губами, запинаясь: – Мой отец, мой отец вернулся… Вот диво дивное, свекор с небес свалился. Разве твой отец не умер давным-давно? Ведь от него больше двадцати лет ни слуху ни духу? Лоб Сяоцзя покрылся потом, он так же запинаясь проговорил: – Вернулся, правда, вернулся…6
Мы с Сяоцзя, не останавливаясь, бежали домой. По дороге я, запыхавшись, раздраженно спросила, как ни с того ни с сего мог появиться какой-то отец? Скорее всего, это некий голодранец явился надуть нас. Все же интересно посмотреть, что это за нечистая сила. Рассердит он меня – возьму кочергу, сперва ноги переломаю, потом доставлю названому батюшке в управу. Там разбираться не будут, сначала вломят ему пару сотен палок, чтоб живого места не осталось, чтобы обделался и обмочился. Тогда посмотрим, посмеет ли он походя выдавать себя за чьего-либо отца. Сяоцзя останавливал всех подряд и с таинственным видом сообщал: – Мой отец вернулся! Люди при этом терялись в догадках, не в состоянии взять в толк, о чем речь, а он тут же кричал: – У меня есть отец! Мы еще не добежали до ворот, а я уже заприметила возле них коляску, запряженную парой лошадей. Вокруг нее толпились соседи по улице. В толпу протиснулось несколько детей с пучками волос на макушках. Лошади были гнедые жеребцы, толстые как свечи. На коляске лежал толстый слой желтой пыли, видать, этот человек проделал неблизкий путь. Народ смотрел на меня как-то странно, глаза поблескивали, как дьявольские огни на кладбище. Владелица мелочной лавки матушка У обратилась ко мне с притворными поздравлениями: – Поздравляю, поздравляю! Вот уж поистине: счастье есть – не поспешай, счастья нет – повсюду край. Цайшэнь[28] благоволит к богатым и знатным, и так жизнь полыхает, а тут с неба еще сваливается богатый батюшка. Тетушка Чжао, жирная свинья в ворота летает, а во дворе – мулов и лошадей целое стадо. Поздравляю, поздравляю! Я зыркнула на эту бабу, у которой рот что твой ночной горшок: – Мелете что ни попадя, матушка У? Если у тебя в семье отца недостает, давай уводи, и вся недолга, мне ничуть не жалко! – Вы что, серьезно? – хихикнула она. – Конечно, серьезно, кто захочет забрать его, тот лошак, ослом зачатый и кобылой вскормленный! Меня зло прервал Сяоцзя: – Пусть кто-либо посмеет похитить моего отца, до смерти затрахаю! Круглое, как блин, лицо матушки У мгновенно покраснело. Эта нарочно распускающая слухи сплетница с языком, как помело, знала про мою любовную связь с начальником Цянем и в душе на этот счет хранила целый кувшин выдержанного уксуса, такого кислого, что зубы сводит. Заставила она меня скривить шею, вынудила Сяоцзя грязно выругаться, поставила нас в неудобное положение, потрепала языком и ушла. Я ступила на каменные ступени нашего дома и обратилась к собравшимся: «Уважаемые соседи, хотите посмотреть – заходите, не желаете заходить – катитесь отсюда, нечего стоять и глазеть попусту!» Толпа смущенно разошлась. Я эту компанию знаю, на словах – одни красивости, лебезят передо мной, а за спиной бранят, стиснув зубы, желая, чтобы я обнищала, пела на улицах и просила подаяние. С такими я, невзирая на лица, обращаюсь без всяких церемоний. Ступив за ворота, я громко вскрикнула: «Божество каких высоких небес явилось нам? Откройте мне глаза!» А в душе думала: нельзя быть мягкой. Настоящий он отец или нет, нужно сперва показать ему свою власть, чтобы он понял, что хозяйка – человек суровый, и в будущем не самодурствовал. Посреди двора я увидела сияющее пурпурное кресло из сандалового дерева с высокой спинкой и подлокотниками да тощего старикана с маленькой торчащей колом косичкой, который нагнувшись, комком шелковой ваты тщательно обтирал сиденье от пыли. На самом деле кресло и так сияло, в него можно было смотреться, как в зеркало, и протирать его не было нужды. Услыхав мой крик, он неторопливо выпрямился, повернулся и окинул меня холодным взглядом. Мама дорогая, взгляд из этих запавших глазниц острее ножа, которым муж Сяоцзя колет свиней. Сяоцзя семенящей походкой подбежал к нему и, раскрыв в дурацкой улыбочке рот, подобострастно проговорил: – Батюшка, а это моя жена, мне ее матушка сосватала. Старый хрыч и в глаза мне не взглянул, что-то промямлил, не знаю уж, что он хотел сказать. Тут с плетью в руке зашел попрощаться возница коляски, который наелся и напился в харчевне Ван Шэна напротив. Вынув из-за пазухи банкноту в один лян, старый хрыч передал деньги ему, отвесил малый поклон, приложив к груди ладонь на кулак, и отчетливо произнес: – Счастливого пути, приятель! Ух ты, у этого старого хрыча столичный говор, почти такой же, как у начальника Цяня. Возница глянул на номинал банкноты, и его страдальческое лицо тут же превратилось в цветочный бутон. Он отвесил один глубокий поклон, второй, третий, беспрерывно рассыпаясь в благодарностях: – Благодарствую, барин, премного благодарен, премного благодарен… Ого, старый хрыч, ты, видать, не из простых! Не скупится, похоже, точно при деньгах, вон куртка выпячивается, как пить дать, там банкноты. Тысяча лянов или того больше? Ладно, в наши дни у кого молоко, тот и мать, у кого деньги – тот и отец. Вот я и бухнулась перед ним на колени, звучно отбила земной поклон и как в опере пропела: – Невестка почтительно представляется свекру! Увидев меня на коленях, Сяоцзя тоже суетливо опустился на землю, со стуком отбил поклон, ни слова не говоря, только по-дурацки хихикая. Старый хрыч не ожидал, что я вдруг разведу такие церемонии. Он был совсем сбит с толку. Свекор протянул одну за другой обе руки. Я так испугалась, что просто остолбенела, ох, что это были за руки… Казалось, он хочет помочь мне встать, но он не помог подняться ни мне, ни тем более Сяоцзя, а лишь произнес: – Будет, будет, какие церемонии среди своих. Мне ничего не оставалось, как неловко вставать самой. За мной встал и Сяоцзя. Старик сунул руку за пазуху. Я в душе была вне себя от радости, думая, что сейчас он вытащит пачку банкнот и пожалует ее мне. Он долго шарил за пазухой, вынул какую-то бирюзовую фитюльку и передал мне со словами: – В первый раз встретились, а подарить тебе нечего, держи вот маленькую безделушку! Взяв эту безделицу, я так же, как он, сказала, мол, какие церемонии среди своих. Штучка была увесистая, мягкая и гладкая, зелень радовала глаз. С начальником Цянем я спала уже несколько лет, и он оказал на меня немалое культурное влияние. Я уже не была человеком заурядным и сразу поняла, что вещь хорошая, только узнать бы, что это. Сяоцзя, надувшись, с обидой смотрел на отца. Тот усмехнулся: – Нагни голову! Сяоцзя послушно опустил голову, и старый хрыч повесил ему на шею что-то продолговатое, сияющее серебряным блеском на красной тесемке. Сяоцзя поднес эту штуку к моему лицу, и я увидела, что это шейный амулет, замок долголетия. У меня невольно раскрылся рот, и про себя я подумала, что старый хрыч, наверное, считает, что его сыну едва исполнилось сто дней. Позже это подношение старого хрыча при первой встрече я показала названому отцу. Он сказал, что это кольцо надевают на большой палец при стрельбе из лука, оно гранится и полируется из наилучшего изумруда, считается дороже золота, и такое сокровище могут носить только императорские родственники и потомки знатных фамилий. Левой рукой названый батюшка ласкал мою маленькую грудь, правой играл с этим кольцом, без конца восклицая: – Прекрасная вещь, прекрасная, воистину прекрасная вещица! – Я сказала, что подарю ее ему, если нравится. – Как можно, как можно, – воскликнул он, – чтобы благородный муж отбирал любимое! – Я женщина, – возразила я, – разве может для меня быть любимым кольцо для стрельбы из лука? Названый отец продолжал вести себя с напускной церемонностью, и я спросила: – Так ты хочешь его или нет? Не хочешь, так я его разобью. Он тут же сказал: – Ах, сокровище мое, ни в коем случае, хочу. – Надел кольцо на палец и время от времени подносил к глазам, чтобы полюбоваться, даже забывал о таком важном деле, как ласкание моей груди. Позже названый батюшка повесил мне на шею нефритового бодхисатву на красном шнурке. У меня аж глаза загорелись, как понравилось украшение, вот уж точно женская вещица. – Спасибо, названый батюшка, – сказала я, поглаживая его бороду. Он перевернул меня лицом вниз, оседлал, как коня, и, тяжело дыша, проговорил: – Красавица моя, хочу хорошенько покопаться в прошлом этого твоего свекра…7
Под мрачный и холодный смешок свекра от его сандалового кресла и сандаловых четок в руках вдруг пахнуло тяжелым ароматом, от которого у меня зарябило в глазах и сердце бешено забилось. Ему было наплевать, жив или мертв мой родной отец, он не обращал внимания на мои заигрывания. Весь дрожа, он встал, отшвырнул четки, с которыми недавно не мог расстаться. Глаза сверкали похожими на звездочки лучиками. Что за огромная радость так взволновала его душу? Какая такая огромная беда так напугала его? Он протянул свои маленькие, как у призрака, ручонки, постанывая и с надеждой глядя на меня безо всякой злобы. Он взмолился: – Руки помыть… Руки помыть… Я зачерпнула из чана пару черпаков холодной воды и налила в медный таз. Свекор нетерпеливо погрузил руки в воду. У него изо рта вырвалось какое-то шипение, не поймешь, что он при этом чувствовал. Руки покраснели, как раскаленные угли, нежные пальчики изогнулись, став похожими на красные лапки маленького петушка. Мне смутно показалось, что его руки раскалены докрасна, как сталь. Вода в тазу будто бы забурлила пузырями, поднялся пар. Это было настолько диковинно и странно, что у меня глаза на лоб полезли. То, что старый хрыч кладет горящие огнем руки в воду, наверняка говорит о том, что, когда ему станет лучше, он вскоре помрет. Смотри, как ослаб: глаза как щелочки, с шипением втягивает воздух через прорехи между зубами. От одного вдоха до другого был большой перерыв. Ясно, что перед тобой заядлый курильщик опиума. Легкой тебе смерти, старый осел. Не думала, что ты еще будешь откалывать такие дьявольские штучки, вот ведь нечистая сила. Достаточно расслабившись, он поднял мокрые красные руки и снова уселся в свое кресло. Только теперь он не жмурился, а, широко открыв глаза, пристально вглядывался в свои руки, смотрел на капли воды, стекавшие с кончиков пальцев и падавшие на пол. Он сидел умиротворенный, выбившийся из сил, испытывающий полное удовлетворение, как мой названый батюшка, только что слезший с моего тела… Тогда я еще не знала, что он – знаменитый заплечных дел мастер, я всецело была поглощена мыслью о купюрах у него за пазухой. Я любезно говорила: «Батюшка, я за вами уже ухаживаю, чтобы вам было хорошо, а жизнь моего родного отца может прерваться, если не вечером, то на рассвете. Мы как-никак свойственники, вы должны помочь мне. Вы спокойно подумайте, а я пока приготовлю вам кашу из фиолетового риса со свиной кровью». Набрав воды, я промывала рис у колодца во дворе, а в душе царила какая-то пустота. Подняв голову, посмотрела на высоко взметнувшиеся ввысь карнизы Храма Бога-покровителя города. Там ворковала стайка серых голубей, птицы теснились там, словно что-то обсуждали. На выложенной плиткой улице за стеной звонко зацокали копыта, показались на конях немецкие солдаты. Над стеной я видела их высокие круглые шляпы с перьями. Сердце беспокойно забилось, я догадалась, что эти прихвостни заморских дьяволов прибыли к нам по поводу моего отца. Сяоцзя уже наточил ножи, разложил рабочие инструменты. Взяв ясеневый шест, он вытащил из хлева черную свинью. Крюк на конце шеста впился в нижнюю челюсть зверя. Свинья пронзительно взвизгнула, и щетина на загривке встала дыбом. Подогнув задние ноги, она изо всех сил ногами и задом упиралась в землю, глаза налились кровью. Но кто сможет противостоять нечеловеческой силище нашего Сяоцзя? Только гляньте, как он напрягает поясницу, используя силу рук и ножищ, каждая из которых что твоя мотыга, оставляя с каждым шагом отпечаток в земле на три цуня[29] глубиной, тащит, как плуг на пашне, черную свинью, а та оставляет копытцами две свежие борозды. Не успела оглянуться, а наш Сяоцзя уже подтащил черную свинью к верстаку. Держа одной рукой шест, другой – свинью за гузно, он с гиканьем выпрямляется, и большая жирная свинья весом двести цзиней[30] бухается на верстак. Свинья уже не понимает, где она, уже забыла, что нужно вырываться, она может лишь разевать пасть и испускать предсмертные вопли да сучить ногами. Сяоцзя опускает впившийся в свинью крюк, отбрасывает его в сторону, попутно хватает из таза для крови остро наточенный сверкающий нож – и раз! Как бы между делом, мимоходом, как протыкают соевый творог, вонзает этот нож свинье в грудь, и еще раз с силой загоняет его по самую рукоятку. Пронзительное верещание вдруг стихает, остается лишь невнятное повизгивание. Очень скоро прекращается и оно, свинья лишь подергивается, подрагивают ноги и шкура, подрагивает даже щетина. Сяоцзя вытаскивает длинный нож, поворачивает тушу так, чтобы ножевая рана приходилась напротив таза для сбора крови. Посверкивающая, похожая на красный шелк горячая кровь фонтаном бьет в таз. У нашей семьи большой, в половину му[31], участок с загоном для собак, свинарником, посадками роз и пионов. Устроены шесты для развески мяса, стоят чаны и кувшины с вином, во дворе построена кухня под открытым небом, повсюду разносится запах крови. С жужжанием роятся пьющие ее зеленоглазые мухи. Носики их не подводят. В ворота вошли двое курьеров из управы – мягкие молодцеватые красные шапочки, черные мундиры, широкие черные кушаки, на ногах сапоги с выступающим впереди швом на голенище и эластичной подошвой, мечи на поясе. Я узнала их: это были стражники из конной стражи. Бегали они быстрее зайцев. Только имен их я не знала. Из-за того, что мой родной отец сидел в тюрьме и на душе было пусто, я лишь слегка улыбнулась им. Обычно я и глазом не вела в сторону таких потрохов ослиных, от которых простому люду один вред. Они вежливо кивнули мне, еле выдавив из себя нечто вроде косой улыбки. Улыбки покинули их лица столь же внезапно. Вынув из-за пазухи черную полоску бумаги, они помахали ею и уже серьезно заговорили: – Имеем честь вручить приказ достопочтенного начальника уезда о вызове Чжао Цзя для допроса. Подбежал Сяоцзя с ножом в крови заколотой свиньи, любезно поклонился и спросил: – Что случилось, господа посыльные? Те с суровым видом вопросили: – Ты Чжао Цзя? – Я Сяоцзя, Чжао Цзя – мой отец. – А где твой отец? – продолжали ломать комедию посыльные. – Мой отец в доме. – Твой отец должен пройти с нами! – заявили посыльные. Я уже насмотрелась на их песьи морды и сердито сказала: – Мой свекор не выходит из дома. А что стряслось? Видя, что я разгневалась, посыльные состроили жалостливые лица: – Сестрица Чжао, мы тоже действуем по приказу, нарушил ваш свекор закон или нет, мы, посыльные, откуда мы знаем? – Уважаемые, погодите, вы приглашаете моего отца поесть-попить? – с любопытством спросил Сяоцзя. – Откуда нам знать? – молвили посыльные, покачивая головами. И вдруг загадочно улыбнулись: – А может быть, нам поесть собачатины и шаосинского вина выпить? Я, конечно, поняла, какую гадость несут эти псы посыльные, они имели в виду мои дела с начальником Цянем. Но до моего толстяка Сяоцзя это, естественно, не дошло. Радостный, он побежал в дом. Я вошла вслед за ним. Цянь Дин, сукин ты сын, какого черта ты задумал? Арестовал моего родного отца, со мной видеться избегаешь; а тут с утра пораньше прислал двух прихвостней арестовать отца моего мужа. То-то будет потеха, если родной отец, отец мужа и названый отец встретятся в судебном зале. Я как-то пела в спектакле «Трое судей встречаются в суде». Но не слышала, чтобы в суде встречались трое отцов. Не иначе как ты, старый хрыч, переживаешь, что так и не увидишь меня. А вот если мы увидимся, я тебя хорошенько расспрошу, что, как говорится, за зелье ты подаешь в своем кувшине. Подняв рукав, Сяоцзя вытер пот с лица и торопливо проговорил: – Батюшка, хорошие новости, прибыли посыльные начальника уезда, чтобы пригласить вас на желтое вино с собачатиной. Свекор сидел в своем кресле прямо, положив уже не красные ручки на подлокотники. Глаза прикрыты, не издает ни звука, не понять, невозмутим он или притворяется. – Отец, скажите что-нибудь, рассыльные ждут во дворе, – волнуясь, торопил Сяоцзя. – Отец, можете ли вы взять меня с собой посмотреть, что и как в управе. Жена часто там бывает, прошу ее взять меня с собой, так не берет… Я поспешила прервать речи толстяка: – Батюшка, не слушайте вздор, что несет ваш сын! Как они могут пригласить вас пить вино? Они пришли арестовать вас! Разве вы совершили преступление? Свекор лениво приоткрыл глаза и протяжно вздохнул: – Пусть даже совершил, как говорится, придет враг – его отразят генералы, разбушуется паводок – его остановит дамба, что тут удивляться! Позовите, пусть войдут! Сяоцзя повернул голову и крикнул за ворота: – Слышали, нет? Отец сказал, позовите их, пусть войдут! Свекор усмехнулся: – Молодец, сынок, так и надо с ними! Сяоцзя выбежал во двор и заявил посыльным: – А вы знаете, моя жена – любовница начальника Цяня! – Вот дурак! – Свекор беспомощно покачал головой, метнув в мою сторону острый взгляд. Посыльные со странным смешком отпихнули Сяоцзя в сторону и, положив руки на рукоятки мечей, бодро и молодцевато, со свирепыми лицами направились в дом. Из глаз-щелочек свекра вырвались полоски холодного света. Он пренебрежительно окинул взглядом посыльных, потом задрал голову и больше не обращал на них внимания. Посыльные переглянулись. Один из них официальным тоном спросил: – Ты и есть Чжао Цзя? Свекор будто задремал. – Отец – человек пожилой, туговат на ухо, – раздраженно сказал Сяоцзя. – Чуть погромче! Посыльный гаркнул: – Чжао Цзя, по приказанию уездного начальника Цяня ваш покорный слуга приглашает вас проследовать в управу. Подняв на него глаза, свекор неспешно произнес: – Возвращайтесь и доложите вашему начальнику Цяню, что у меня, Чжао Цзя, ноги не ходят, выполнить приказ не могу! Посыльные вновь переглянулись, один прыснул со смеху. Но улыбка тут же исчезла, и на лице появилось глумливое выражение: – Не хотите ли вы, чтобы начальник Цянь за вами паланкин прислал? – Так было бы лучше всего, – ответил свекор. Не в силах сдержаться, посыльные расхохотались. И смеясь, заявили: – Хорошо, хорошо, оставайтесь дома и ждите, когда начальник Цянь самолично прибудет за вами! Смеясь, посыльные вышли из дома, во дворе их смех стал еще разнузданнее. Вышедший вслед за ними Сяоцзя заносчиво сказал: – Ну как вам мой отец? Все вас боятся, а он нет! Посыльные глянули на Сяоцзя, и их обуял новый приступ смеха. Потом, пошатываясь, они ушли. Их смех доносился даже с улицы. Я понимала, почему они так смеются. Свекор тоже. Вошел недоумевающий Сяоцзя: – Батюшка, а что они все время смеются? Мочи полоумной старухи напились, что ли? Я слышал, как плешивый Хуан рассказывал, что, напившись мочи полоумной старухи, начинаешь хохотать без умолку. Наверняка мочу пили, вот только чью? Явно обращаясь ко мне, а не к Сяоцзя, свекор сказал: – Сынок, люди не могут оценивать сами себя, эту истину твой отец уразумел лишь на склоне лет. Начальник уезда Гаоми, считай, из «тигров»[32], но носит на шапке хрустальный шарик и перо с одним глазком, как чиновник пятого класса; его жена – внучка Цзэн Гофаня[33]. Как говорится, лучше быть живой крысой, чем мертвым правителем области. Твой отец чиновником не был, но отрубленных им голов с красным шариком на шапке хватит на пару больших корзин! Да и снесенными мной головами аристократов и знати тоже можно пару больших корзин наполнить! Разинув рот и оскалившись, Сяоцзя не мог взять в толк, правильно ли он понял слова отца. Я-то, конечно, все до конца поняла, что он имел в виду. За несколько лет, проведенных с начальником Цянем, мой кругозор значительно расширился. Услышав то, что он сказал, я внутри похолодела, на теле выступила куриная кожа. На лице наверняка не было ни кровинки. За полгода толки о моем свекре расползлись по улицам фонтанчиками ветра и конечно же достигли и моих ушей. Собравшись с духом, я спросила: – Свекор… Вы и вправду занимались этим ремеслом? Тот уставился на меня своими ястребиными глазами и, останавливаясь после каждого слова, словно выплевывая железные шарики, произнес: – В каждом… ремесле… свой… мастер! Знаете, кто это сказал? – Это пословица, ее все знают. – Нет, – сказал свекор. – Это сказал один человек, обращаясь ко мне. Знаете кто? Я лишь покачала головой. Свекор встал с кресла, держа четки в обеих руках. Одуряющий аромат сандала опять наполнил всю комнату. Отощавшее лицо покрылось слоем благородного золота, и он надменно, с искренним почтением и признательностью произнес: – Императрица Цыси!Глава 2. Бахвальство Чжао Цзя
Поговаривают, Южный ковш, что на Небесах, заправляет смертью, а Северный черпает жизнь. Человек должен подчиниться воле государя ровно так же, как трава следует дуновению ветра. Сердце человека должно уподобиться железу, ведь закон и устав подобны раскаленной печи. Даже камень, сколько бы он ни был твердым, боится встречи с железным молотом (и сию истину, по возвращении домой, я познаю сполна!). Кто я? В былое время – первый палач Великой цинской империи, имя которого гремело во всех залах министерства наказаний (прислушайтесь, может еще услышите раскаты того эха). Менялись главы у ведомства казней, точь-в-точь как лошадки в вертящемся фонарике. И только я, старик Чжао, так и продолжал сидеть на своем месте и вносил посильный вклад в дела державы, умерщвляя люд (резать головы – что резать овощи, драть кожу – что чистить луковку). Не сдержать мягкому хлопку в поле яркое пламя, не скрыть снегу тела покойников на том поле. Дозвольте уж, открою вам всю душу, а вы, юнцы, послушайте и рассудите: где здесь правда?Отрывок из маоцян «Казнь сандалового дерева», «Песнь о фонарике с лошадками»
1
Что ты выпучила глаза и уставилась на меня, моя распутная невестка? Не боишься, что они у тебя выскочат из орбит? Твой свекор действительно занимался этим ремеслом, с семнадцати лет, когда разрубил по пояснице работника казначейства, укравшего серебро государственной пробы, до шестидесяти, когда провел «Казнь тысячи усекновений» наемного убийцы, устроившего покушение на сановника Юаня. Так вот и зарабатывал на хлеб целых сорок четыре года. И чего ты еще пялишься? Таких выпученных глаз я повидал немало, таращились они по-настоящему, вы таких не видали. Во всей провинции Шаньдун нет человека, который бы видел такое. Не говоря о том, чтобы видеть, от одного рассказа об этом в штаны наложите от страха. В десятый год правления Сяньфэна[34] старший дворцовый евнух Сяо Чунцзы, который ведал императорским ружейным арсеналом, дерзнул украсть и продать императорское семизвездное охотничье ружье. Его поднесла Сяньфэну русская императрица, и вещь это была непростая, чудесная. Позолоченный ствол, посеребренный затвор, приклад из сандалового дерева с семью инкрустированными бриллиантами размером с лущеный арахис каждый. Это ружье стреляло серебряными пулями, ими можно было сбить феникса в небе, уложить цилиня[35] на земле. Со времен сотворения мира этот дробовик единственный в своем роде, второго такого нет. Видя, что Сяньфэн целыми днями хворает и память его ослабла, евнух Сяо Чунцзы взял на себя смелость украсть семизвездное ружье и продать. Говорят, он получил за него три тысячи лянов и приобрел отцу имение. Этого негодяя черт попутал, он забыл элементарную истину, а именно, что любой, кто стал императором, – дракон, настоящий сын Неба. Настоящий сын Неба разве не затмевает умом своих современников? Разве он не отличается прозорливостью? Батюшка Сяньфэн был еще более непостижим, своими драконьими глазами он мог ясно разглядеть малую былинку. При свете дня он казался почти таким же, как все, но с наступлением темноты от него начинало исходить сияние, и ему почти не нужен был фонарь для чтения и письма. Рассказывают, что в начале зимы того года батюшка Сяньфэн вознамерился ехать за стену на облавную охоту именно с тем самым семизвездным ружьем. В полном замешательстве Сяо Чунцзы распростерся перед государем и стал нести всякие глупости. Сперва говорил, что ружье утащила белая лиса, потом, что его унес гриф. Батюшка Сяньфэн исполнился царственного гнева, велел выпустить высочайший указ о передаче Сяо Чунцзы в особый департамент по разбирательству с дворцовыми сановниками для проведения строгого допроса. В этом заведении под пытками Сяо Чунцзы признал все как есть. От ярости из глаз его величества искры сыпались, он скакал по дворцовым покоям и бранился на все лады: – Сяо Чунцзы, так и так восемь поколений твоих предков! Вот уж смельчак! Крыса, что лижет зад кошке! Чтобы осмелиться воровать в нашем доме! Я не император буду, если не всыплю тебе по первое число! Батюшка Сяньфэн решил выбрать особо жестокую казнь, чтобы проучить Сяо Чунцзы. Как говорится, зарезать курицу, чтобы лисам неповадно было. Государь велел департаменту наказаний представить список казней. Департамент – несколько сановников, ведающих наказаниями для евнухов, – представили ему, как меню, список наказаний из своей практики. Там, конечно, были и палочные удары, и «давление жердью»[36], и закатывание в циновку, и удушение мешком на голове, и разрывание пятеркой лошадей, и разрубание на куски, и многое прочее. Государь слушал-слушал, качая головой и приговаривая: «Так себе, не очень, какой-то старый суп и объедки, все тухлое и вонючее. Для этого случая вам нужно обратиться в министерство наказаний и пригласить для наставления кого-нибудь из тамошних умельцев». Государь дал устное распоряжение, чтобы свои варианты жестоких наказаний представили и министерство наказаний, и тюрьмы, и судебные секретари. Получив высочайший указ, тогдашний министр наказаний его превосходительство Ван в тот же вечер разыскал бабушку Юя. Кто такой бабушка Юй? А это мой наставник. Конечно же, он мужчина. Почему «бабушка»? Так вот, слушайте, это в нашем ремесле титул такой. Во времена династии Цин при министерстве наказаний, тюрьмах и судебных секретарях всего было четыре человека в ранге палачей. Самых старших по возрасту, имеющих самый длинный послужной список, самых искусных и называли «бабушками». Остальные трое в зависимости от послужного списка и мастерства подразделяются на старшую тетку, вторую тетку и свояченицу. Когда случается страдная пора, работы много и не справляешься, можно временно нанять подручного, которых называют «племянниками». Вот я как раз с племянника и дорос до бабушки. Легко ли это было? Нет, не легко, действительно нелегко. В судебном зале министерства наказаний я целых тридцать лет был бабушкой. Министры, товарищи министров сменялись, как лошадки в фонаре[37], только я, бабушка, стоял незыблемо, как гора Тайшань. Люди презирают наше ремесло, но когда занимаешься им, начинаешь презирать всех без разбору, ровно как ты презираешь свиней и собак. Так вот, его превосходительство министр Ван вызвал бабушку Юя и меня, твоего отца, к себе в канцелярию на беседу. Мне в тот год исполнилось двадцать лет, и меня только повысили из старших теток в бабушки. Это было против всяких правил, проявление полной благосклонности ко мне. Бабушка Юй сказал мне: – Сяоцзя, когда наставник стал старшей теткой, ему было больше сорока, а ты, негодник, стал старшей теткой уже в двадцать. Быстро идешь вверх, прямо как июньский гаолян! Его превосходительство Ван безо всяких обиняков сказал: – Государь издал указ: он хочет, чтобы мы, министерство наказаний, предложили особенную казнь, чтобы проучить сановника, который украл ружье. Вы у нас специалисты, подумайте хорошенько. Нельзя не оправдать доверия государя, а тем более подорвать репутацию нашего министерства. Бабушка Юй на минуту задумался, потом сказал: – Ваше превосходительство, ваш покорный слуга думает, что государь досадует на этого Сяо Чунцзы прежде всего за то, что тот имеет глаза да не видит. Давайте уважим мнение нашего владыки. – Совершенно верно, – обрадовался Ван. – Если есть какой-нибудь замечательный способ, то давай выкладывай быстрее! – Есть одна казнь, – продолжал бабушка Юй, – называется «Засов Янь-вана», другое название ей – «Два дракона играют жемчужинами». Не знаю, подойдет ли такое наказание или нет. – Быстро рассказывай, слушаю, – нетерпеливо сказал Ван. Бабушка Юй тут же подробно объяснил, как ставится «Засов Янь-вана». Выслушав, его превосходительство Ван засиял от радости и сказал: – Вы сперва возвращайтесь и приготовьтесь, ждите, пока я получу одобрение государя. – Изготовить этот «засов Янь-вана» – дело очень хлопотное, – сказал бабушка Юй. – Железный обруч должен быть ни твердый, ни мягкий. Нужно использовать высокосортное кованое железо, а оно требует тысячекратной ковки и стократной закалки, чтобы его можно было использовать. В столице нет ни одного мастера, кто мог бы сделать эту работу. Надеюсь, ваше превосходительство даст некоторое время, чтобы я взял с собой подмастерье и сделал все сам. У нас там ничего нет. На инструменты как-нибудь наскребем с подмастерьем, и надеюсь, что ваше превосходительство соблаговолит выделить немного денег, чтобы ваш покорный слуга смог закупить сырье… Его превосходительство Ван холодно усмехнулся: – А от продажи человеческого мяса на лекарства вы за год разве не получаете достаточно большой доход? Бабушка Юй торопливо бухнулся на колени, и я, твой отец, конечно, вслед за ним. Бабушка взмолился: – Ни одно деяние не ускользнет от глаз вашего превосходительства, но все же изготовление «засова Янь-вана» – дело государственной важности… – Вставайте, – велел его превосходительство Ван, – выделяю вам две сотни лянов серебра. Сотня вам – учителю и ученику – в награду за ваши труды. На эту работу ты должен потратить все силы, недопустима никакая небрежность. Дворцовый сановник совершил преступление. Во все предшествующие династии казнь проводил департамент по разбирательству преступлений дворцовых сановников; но вот эту задачу государь поручил нашему министерству наказаний, это дело – как поднятие целины. Это ясно говорит о том, что государь постоянно думает о нашем министерстве наказаний, ценит нас, милость его безбрежна! Вы должны быть внимательны, работа, сделанная блестяще, порадует государя, что ни сделай, вопросов не будет. Но если сделаете свое дело отвратительно, то вызовете неудовольствие государя, посрамите наше министерство. Ваши собачьи головы будут торчать в другом месте. Мы с бабушкой Юем с ужасным трепетом в душе взялись за выполнение этой славной задачи, с радостью получили деньги, отправились в хутун[38] к югу от Храма Защиты Отечества[39], где располагалась община мастеров по металлу, нашли там лавку одного кузнеца, который по нашему рисунку сделал железную основу «засова Янь-вана», потом на улице тяглового скота купили немного невыделанной бычьей кожи, велели сделать сыромятные веревки и привязать к железной основе. Подсчитали, оказывается, даже четырех лянов не потратили. Из суммы в сто девяносто шесть лянов двадцать пошло на золотой браслет для любовницы, которую его превосходительство Ван содержал в хутуне Цзинлин, а из оставшихся ста семидести шести старшая тетка получил шесть лянов, бабушка Юй – сто, твой отец – семьдесят. На эти деньги твой отец, вернувшись в родной край, купил этот дом, а заодно взял в жены твою мать. Если бы не было сановника Сяо Чунцзы, укравшего ружье государя императора, твоему отцу не на что было бы вернуться домой, не было бы денег на покупку дома и на женитьбу, а не женился бы, не было бы и тебя, сынок, не будь у меня сына, конечно, не было бы и тебя, невестка. Теперь поняли? Вот почему я захотел рассказать вам про дело этого Сяо Чунцзы. У каждого дела есть свой корень и верхушка. Дело Сяо Чунцзы с ружьем – ваш корень и есть. За день до казни его превосходительство Ван не мог успокоиться и приказал доставить под стражей из тюрьмы одного из осужденных, чтобы мы продемонстрировали в судебном зале «засов Янь-вана». Выполняя приказ его превосходительства Вана, мы с бабушкой Юем наладили «засов Янь-вана» в сборе на голову несчастного осужденного. Тот громко возопил: – Господин, господин, я же не отказывался от данных ранее показаний! Я не отказывался от показаний! Почему же вы хотите казнить меня? – Все для государя! – возгласил его превосходительство Ван. – Начинайте казнь! Процесс осуществления казни был очень прост, времени потребовалось совсем немного, ровно столько, чтобы выкурить трубочку табака. Голова осужденного раскололась, выступил мозг, и так он умер. Его превосходительство Ван заявил: – Эта штука действительно довольно жестокая, но вот умирает человек слишком быстро. Государь не очень-то об этом задумывался, он позволил нам самим выбрать казнь с тем, чтобы Сяо Чунцзы получил должное наказание. На всех сановников, которые увидят, что Сяо Чунцзы не заслужил доброй смерти, это окажет воздействие. Казнь одного в назидание сотне другим! Вы сбрую на него натянули, поднатужились, пшик! И готово! Проще, чем кролика удавить, куда это годится? Поэтому прошу вас, надо процесс проведения казни сделать не таким кратким, она должна длиться по меньшей мере пару часов, чтобы она была занимательнее любого театрального действия. Вы же знаете, что при дворце есть не одна театральная труппа. Блестящих актеров у нас несколько тысяч, они все пьесы в Поднебесной уже переиграли. Надо, чтобы с этого Сяо Чунцзы пот лил рекой, чтобы вы двое тоже были в поту. А то вы совсем не показали, на что способен судебный зал нашего министерства, и не показали полную величественность «засова Янь-вана». Его превосходительство Ван распорядился доставить из тюрьмы другого осужденного, чтобы мы могли продолжить репетицию. Голова у этого преступника была с большую плетеную корзину, «засов Янь-вана» для него был маловат, и пришлось приложить немало усилий, прежде чем нам все-таки удалось впихнуть это устройство ему на башку подобно тому, как ставят обруч на бочку. Огорченный Ван презрительно проговорил: – И это за две сотни лянов вы изготовили такую штуковину? Одной этой фразой он напугал нас так, что пот прошиб. Бабушка Юй казался спокойным, но потом признался, что струхнул порядочно. На сей раз казнь, можно сказать, прошла успешно: промучились добрых два часа, безвинный с большой головой настрадался вдоволь, прежде чем упал и испустил дух. Как бы то ни было, наградой нам стало улыбающееся лицо его превосходительства Вана. Глядя на мертвые тела, он сказал нам: – Возвращайтесь, приводите в порядок рабочий инструмент, замените сыромятные замаранные кровью ремешки на новые, протрите обруч, лучше всего – нанесите слой лака. Почистите мундиры и все остальное, чтобы государь и дворцовые увидели, какие хорошие манеры у палачей из нашего министерства наказаний. Говорить можно много, но, короче говоря, успех – единственный вариант, неуспеха быть не может! Если допустите промах – подведете все министерство, и этот «засов Янь-вана» будет помещен уже на ваши головы. На другой день со вторыми петухами мы уже были на ногах и стали готовиться. Надо идти во дворец казнь проводить, дело особой важности, какой тут сон? Даже прошедший через бесчисленные бури и волны бабушка Юй ворочался на кане туда-сюда. Не прошло и часа, как он слез с кана, достал с подоконника ночной горшок, помочился, потом закурил. Пока вторая тетка со свояченицей хлопотали по хозяйству, разводили огонь и готовили еду, ваш отец еще раз тщательно осмотрел «засов Янь-вана», убедился, что нет ни одного изъяна, и передал на последнюю проверку бабушке. Бабушка Юй ощупал каждый цунь «засова Янь-вана», удовлетворенно кивнул, бережно завернул его в три чи[40] красного шелка и почтительно возложил перед фигурками предков. В нашем ремесле основателем профессии считается Гао Яо[41], человек большой добродетели и таланта, живший в эпоху Трех Властителей и Пяти Императоров[42], выдающаяся личность, который чуть не унаследовал царский трон от почтенного Да Юя[43]. Все нынешнее уголовное право и виды наказаний установлены Гао Яо. Как рассказывал наш наставник бабушка Юй, отец-основатель во время казни людей по большей части не пользовался мечом, он лишь уставлял взгляд на шею преступника, слегка сдвигал взор в сторону, и голова человека сама катилась на землю. У Гао Яо были раскосые глаза, так называемые «глаза красного феникса», изогнутые брови, лицо темнее финика, очи, как ясные звезды, на подбородке – три прекрасные пряди волос. Обликом он был вылитый Гуань Юньчан[44], господин Гуань из «Троецарствия»[45], бабушка Юй говорил, что господин Гуань на самом деле был перерождением Гао Яо. Мы кое-как перекусили, сполоснули рот и почистили зубы, помыли руки и лицо. Вторая тетка со свояченицей помогали бабушке Юю и вашему отцу надеть новую с иголочки форму и ярко-красные войлочные шапочки. Пытаясь подольститься, свояченица сказала: – Наставник, старший подмастерье, вы будто получили степень цзиньши на императорских экзаменах! Бабушка Юй зыркнул на него и сказал, чтобы тот не болтал лишнего. По установлениям нашей профессии запрещалось смеяться и подшучивать до работы и во время ее. Даже одно насмешливое слово было нарушением запрета и могло вызвать дух безвинно погибшего. Как вы думаете, что за маленькие завихрения нередко поднимаются на месте казней у Прохода на овощной рынок?[46] Это не ветер, это духи безвинно погибших и есть! Бабушка Юй достал из своего плетеного сундука связку дорогих сандаловых благовоний, осторожно вытащил три палочки, зажег от дрожащего пламени свечи перед образом отца-основателя и воткнул их в кадильницу перед табличкой с его именем. Он встал на колени, мы трое тоже поспешили опуститься на колени. Бабушка негромко проговорил нараспев: – Батюшка-основатель, батюшка-основатель, сегодня проводится дворцовая казнь, очень важная, уповаем на твое благословление! Смилуйся над нами малыми, позволь сделать все благополучно, дети тебе челом бьют! Бабушка поклонился, с глухим стуком ударившись лбом о синие кирпичи пола. Вслед за ним поклонились и мы, с тем же глухим стуком ударившись лбом о те же синие кирпичи пола. В пламени свечи лик отца-основателя отливал красным. Мы отвесили девять таких поклонов, потом вслед за бабушкой встали и отступили на три шага. Выбежавший на двор вторая тетка принес чашу из светло-синего гладкого фарфора. Сбегавший туда же свояченица вернулся с большим белым петухом с черным гребнем. Вторая тетка поставил фарфоровую чашу перед прямоугольным столиком для жертвоприношений и, наклонившись, опустился на колени сбоку. Свояченица встал на колени перед столиком, левой рукой придерживая голову петуха, правой – ноги птицы, и растянул перед собой петушиную шею. Вторая тетка взял из фарфоровой чаши маленький нож в форме ивового листа и ловко провел им по шее петуха. Крови сначала не было, и мое сердце бешено заколотилось: отсутствие крови предвещало неблагоприятный ход казни. Но через мгновение черно-красная кровь с шипением брызнула в фарфоровую чашу. Кровь такого белого петуха с черным гребешком – самая горячая, всякий раз перед проведением большой казни мы покупаем такого. Через какое-то время кровотечение прекратилось, чашу поставили на жертвенник, двое младших братьев поклонились до земли, согнувшись в поясе, и отошли назад. Вперед вышли мы с бабушкой, встали на колени, отвесили три земных поклона. Следуя примеру бабушки, я окунул указательный и средний пальцы левой руки в петушиную кровь и, как актер накладывает грим, стал наносить ее себе на лицо. Петушиная кровь обжигающая, аж пальцы зачесались. Лица у нас двоих оказались измазаны в крови. Остатками крови вымазали руки. Наши с бабушкой лица стали такими же красными, как лицо отца-основателя. Зачем мазать лица петушиной кровью? Чтобы сохранить единство с отцом-основателем, чтобы все эти духи безвинно погибших знали, что мы – ученики и последователи господина Гао Яо. Во время проведения казни мы вообще не люди, мы – небожители на службе государственного правосудия. Вымазав руки и лица, мы с бабушкой спокойно уселись на табуретки и стали ждать вызова во дворец. Занималась заря. На софорах во дворе каркали вороны. Из тюрьмы, нашего «небесного хлева»[47], доносились безудержные женские рыдания. Так каждый день рыдали в ожидании исполнения приговора мужу. Плакали женщины и дети, уже наполовину помешавшись рассудком. Я, твой отец, тогда был еще молод, отсидел на своем посту уже довольно долго, но в душе все смешалось, и сидеть ровно не получалось. Я покосился на бабушку, тот восседал чинно и торжественно, что твой железный колокол. Подобно ему, я задержал дыхание, избавившись от раздражения, и привел в порядок душевное состояние. Петушиная кровь уже подсохла, отвердела, и на наших лицах образовалось некое подобие сахарной оболочки шариков боярышника. Привыкнув к ощущению этого панциря на лице, я понемногу ощутил какую-то неопределенность в душе и с этой неопределенностью последовал за бабушкой по глубокому и мрачному ущелью. Мы шли, шли, шли, а конец ущелья все терялся вдали. Тюремный делопроизводитель господин Цао наконец подвел нас к двум небольшим паланкинам с зелеными занавесками и, указав на них, дал нам знак садиться. Неожиданно радушный прием привел меня в полное замешательство. До того времени я никогда в паланкине и не ездил. Посмотрел на бабушку, тот тоже остолбенело разинул рот, не поймешь, то ли заплакать собирается, то ли чихнуть. Стоявший у носилок евнух с заплывшим подбородком хрипло проговорил: – Ну в чем дело? Думаете, паланкины малы, что ли? Мы с бабушкой по-прежнему не осмеливались сесть в паланкины и во все глаза смотрели на господина Цао. Тот рявкнул: – Это не из уважения к вам, а чтобы избавить вас от лишнего внимания. Что застыли? Быстро в паланкины! Вот уж впрямь, собачьей голове на золотом блюде не удержаться! Четверо носильщиков, евнухи с голыми подбородками, стояли перед и за паланкинами, засунув руки в рукава. На лицах их застыли презрительные мины. От их отвращения я набрался смелости. Евнухи вонючие, мать вашу, я сегодня благодаря Сяо Чунцзы и вас, зверей двуногих, прославлю. Я сделал пару шагов, раздвинул занавески и сел в паланкин. Бабушка тоже уселся. Паланкин поднялся с земли и, покачиваясь, двинулся вперед. Твой отец слышал, как евнухи-носильщики негромко ругались хриплыми голосами: – Тяжеленные какие эти палачи, немало человеческой кровушки попили! Обычно они носили если не матушку-государыню, то императорских наложниц. Этим мужикам и во сне не снилось, что придется нести двух палачей. В глубине души я, твой отец, был доволен, тело в паланкине ходило туда-сюда, выдавая, насколько этим поганым евнухам было не по себе. Паланкины только вышли за ворота министерства наказаний, как сзади послышался громкий крик свояченицы: – Бабушка, бабушка, «засов Янь-вана» забыли! В голове у меня загудело, в глазах потемнело, по телу покатились крупные капли пота. Я кувырком выкатился из паланкина и принял из рук свояченицы завернутый в красный шелк засов. Что у меня творилось в душе, и не передать. Бабушка тоже вывалился из паланкина, тоже весь в поту, ноги у него дрожали. Не вспомни свояченица – большой беды было бы не миновать. Господин Цао ругался на чем свет стоит: – Мать вашу разэтак, все равно что чиновник потерял большую печать или портной ножницы дома оставил! Я, твой отец, вообще-то собирался хорошенько обдумать свое состояние после того, как сел в паланкин, но все настроение было испорчено произошедшим. Я попросту скорчился внутри и больше не смел и думать о том, чтобы даже заговорить с евнухами. Не знаю, как долго мы ехали, но вдруг паланкин плюхнулся на землю. Голова шла кругом, когда я выбрался наружу. Поднял я голову, и моему взору открылся блеск и великолепие. Выгнув спину, с «засовом Янь-вана» в руках, я шагал вслед за бабушкой. Бабушка следовал за ведшим нас через дворец евнухом, который, поворачивая туда-сюда, вывел нас в просторный двор. Там было полно коленопреклоненных людей – безусых, в желто-бурой одежде и круглых черных шапочках. Укравший ружье Сяо Чунцзы уже был привязан к столбу. Этого человека небольшого роста с правильными чертами лица, культурного и спокойного, на первый взгляд можно было принять за взрослую девушку. Особенно выделялись глаза: двойные веки, длинные ресницы, выразительные очи, похожие на черные виноградины. Как жаль, вздохнул про себя твой отец, как жаль такого хорошего человека. И такого красивого мальчика лишили всего сущего, привезли во дворец, чтобы сделать евнухом. Как на это пошли его родители? Перед привязанным к столбу Сяо Чунцзы был возведен временный помост для зрителей, по центру которого стояло несколько резных кресел из сандалового дерева. А в самом центре – особенно массивное кресло. На нем лежала подушка желтого цвета с вышитым золотым драконом. Наверняка это был «драконий престол» для государя императора. Твой отец также заметил начальника нашего министерства наказаний, его превосходительство Вана, товарища министра – его превосходительство Те, и еще много других сановников с шариками из драгоценных камней и коралла. Съехались, наверное, чиновники из всех министерств. Теперь они торжественно стояли перед помостом навытяжку, опустив руки и не смея даже кашлянуть. Действительно, манеры во дворце отличны от обычных. Тишина, тишина, тишина такая, что сердце твоего отца беспорядочно забилось. Лишь воробьи, прилетевшие с глазурованной черепицы крыши, обменивались чириканьем, не понимая сложности бытия. Неожиданно седовласый краснощекий старик евнух, который давно уже стоял на высоком помосте, четко и протяжно провозгласил: – Государь прибыл! Все скопище красных и синих шариков перед помостом вдруг стало ниже, слышался лишь шелест отбрасываемых в сторону рукавов. Везде, насколько хватало глаз, чиновники всех шести министерств и придворные дамы опустились на колени. Твой отец собрался было тоже встать на колени, но тут же получил сильный удар по ноге. И сразу увидел сверкающие глаза бабушки. Тот, задрав голову, стоял сбоку от столба, как каменное изваяние. Я тут же пришел в себя, вспомнив правила ремесла. Так было во все века: палачи с измазанными петушиной кровью лицами уже были не люди, а символы божественного и величественного государственного правосудия. Мы не должны были вставать на колени даже перед императором. Следуя примеру бабушки, твой отец выпятил грудь, подобрал живот и тоже превратился в каменное изваяние. Этой высочайшей чести, сынок, не говоря уже о крохотном уезде Гаоми, или солидной провинции Шаньдун, или безбрежной великой империи Цин, были удостоены лишь мы двое. ...Все права на текст принадлежат автору: Мо Янь.
Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

 Купить эту книгу в ЛитРес
Купить эту книгу в ЛитРес